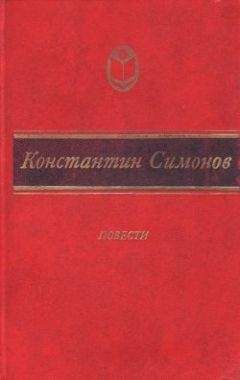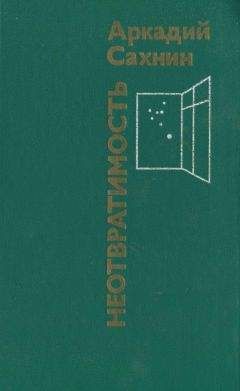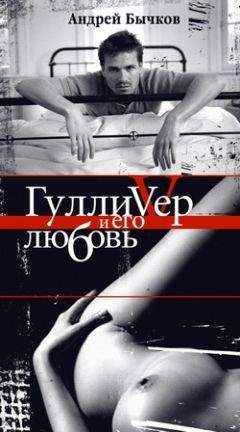Каждый день в деревню приносили газеты. Крестьяне шли в соседнее селение, где был грамотный человек, и он читал им вслух. Но к нему приходили и из других деревень; вокруг его дома всегда толпился народ, хоть и неудобно заставлять человека с утра до вечера читать.
— В тот день, когда крестьян стали вызывать в дом Ли Ду Хана, занятий в школе не было. Представитель Народного комитета вручал каждому бумагу, в которой значилось, какой участок земли передается этому крестьянину. И у кого было больше детей, тем давали больше земли. И все говорили, что это справедливо.
Пак Собан сидел рядом с представителем Народного комитета и видел, что земля и инвентарь распределяются правильно. Очередь на рабочий скот так установлена, что каждый успеет вовремя обработать свой участок.
А вечером, когда все уже было закончено, Пак Собану тоже вручили бумагу, где было написано, что ему принадлежит. Он поклонился представителю Народного комитета и, держа в руках бумагу, вышел из дома Ли Ду Хана. Он пришел в свою хижину и плотно задвинул за собой дверь.
Новые чувства и мысли охватили Пака. Молча сел он на циновку, поджав под себя ноги, и сидел в оцепенении, не в силах двинуться, не в силах осознать, что произошло. Потом поднялся, снял с себя рубище, достал из ниши в стене новую одежду, подаренную сыном, накинул на плечи халат и начал молиться.
Долго клал земные поклоны Пак Собан. Всю свою, жизнь — горе и мечты о счастье, смятение души и великие надежды вложил он в молитву.
Впервые в жизни он ничего не просил у богов. Пусть все будет так, как сегодня…
На рассвете Пак пошел посмотреть на поле, которое теперь принадлежит ему. Сладостен был запах земли. Пак лег на землю, обнял ее руками, прижался к ней грудью, и обильные слезы потекли по его сухому, изрезанному морщинами лицу.
1954 год
Гурам Урушадзе окончательно рассорился с Валей. Во всем виновата она. Одна она. Себя он ни в чем упрекнуть не мог. И чем больше в его глазах вырастала вина Вали, тем острее он чувствовал необходимость обвинить ее еще в чем-нибудь, словно кто-то более убедительно возражал ему.
Они давно решили свою судьбу. Их дружба так окрепла, что решение пришло само по себе. Он даже предложения ей не делал. Все было ясно. Они подолгу мечтали о том, как сразу же после его демобилизации поедут к нему на родину, в Ланчхути, строили планы будущей жизни.
В Ланчхути их ждет отец. Он выделил две лучшие комнаты с кухней и запретил Нази и Давиду заходить туда: это для Гурама и его будущей жены. Добрый старый отец! Ему не понравились кровати в мебельном магазине Ланчхути, и он специально тащился за ним в Батуми.
И вот окончились три года службы. Послезавтра наступит день, о котором они столько мечтали. И кто мог подумать, что именно теперь она заупрямится. Появился тон, какого раньше не было: «Пока не поженимся, никуда не поеду». Но почему это делать сейчас, в горячке отъезда? Ему надо получать в штабе все необходимые документы, она будет брать расчет, бегать в контору, в домоуправление за всякими справками, и среди этой беготни — загс и еще одна бумажка, будто багажная квитанция. К чему эта спешка?
Гурам шел от Валиного дома в казарму, и в мыслях всплывала их совсем неожиданная ссора. Особенно возмутилась Валя после того, как он сказал, что должен сначала познакомить ее с отцом, а потом расписываться.
— Так что же это, смотрины? — вскипела она. — Ведь мы комсомольцы, как тебе не стыдно?
— А ты не бросайся этим словом! — разгорячился и он. — Это когда-то находились такие умники: комсомолец — значит, долой все старое, даже хорошее. Комсомолец — значит, не носи галстука, комсомолка — не надевай кольцо, комсомольцы — значит, не надо советоваться с родителями. А почему?
Потом он старался спокойно все объяснить. Ну почему, в самом деле, надо лишать старого отца радости сказать свое родительское слово, лишить его возможности преподнести традиционный предсвадебный подарок?
— А если я ему не понравлюсь? — горячилась Валя.
— Ты опять требуешь комплиментов. Ты ему обязательно понравишься. А во-вторых, не думай, что отец — отсталый человек. Он, правда, стар, но ведь уже сорок лет Советской власти…
— При чем здесь власть? — все более раздражаясь, перебила она.
— Очень при чем. Некоторые, наслушавшись разных сказок, видят в Грузии только древность, чуть ли не дикость…
— А женитьба по воле отца — это как называется?
— Не по воле отца, пойми же ты! Если я приведу в дом жену, он ни за что не скажет «нет».
— Значит, пустая формальность?
— Нет, не формальность, и не пустая! — разозлился Гурам. — Отец — это отец. Он вырастил и воспитал меня. Почему я должен обидеть старого и дорогого для меня человека? Если рассуждать по-твоему, значит, все формальность. А загс разве не формальность? Разве крепче будет жизнь от того, что конторщица поставит рядом наши фамилии?
— Но ведь так все делают.
— Это же не довод. Если человек нехорошо поступит с женой, перед загсовской бумажкой он не покраснеет, а перед отцом стыдно будет. Но пусть, в конце концов, формальность, такая же, как и загс. И я за то, чтобы обе эти формальности выполнить.
— Да, но ты ставишь ультиматум — сначала отец, потом загс.
— Не ультиматум это. Просто твое непонятное упрямство. И вообще, я хочу тебе сказать, я еще до армии заметил, есть у нас люди, которые действуют по принципу: найти хоть какую-нибудь возможность не выполнить просьбу человека, не сделать ему приятное. Попросишь у продавца монетку разменять для автомата — у него целая гора мелочи. «Нет, — говорит, — нету». И вот на такой чепухе мы озлобляем друг друга.
— О чем ты говоришь, я не понимаю.
— О том, что, если можно не огорчать отца, сделать ему приятное, значит, надо сделать. Меня удивляет, почему ты не предлагаешь к твоей маме в деревню съездить, это же совсем рядом. Представляешь, как она будет рада, если до замужества ты ее совета спросишь! Нет, не в том самостоятельность, чтобы как снег на голову: знакомься, мама, это мой муж. Что-то очень обидное для родителей в этом.
— Ты совсем о другом говоришь, Гурам, — начала Валя примирительно. — Пойми же, что мне стыдно. Еду в совсем незнакомое место, в чужой город. Ну в качестве кого я еду? Жена? Нет. Невеста? Тоже нет. Невесты не ездят сразу с кастрюльками и подушками. Просто знакомая… Не поеду, — решительно и даже зло закончила она.
— Ну и не надо! — не выдержал Гурам.
— Ах, вон как! Тогда уходи отсюда! — совсем уже вне себя выкрикнула она.
Хлопнув дверью, Гурам ушел, не сказав больше ни слова.
Грустные мысли одолевали Гурама Урушадзе. Он шел в казарму и злился. Резкий автомобильный гудок заставил его отскочить в сторону. Одна за другой пронеслись зеленые машины военного коменданта Курска Бугаева и полковника Диасамидзе. И уже совсем на немыслимой скорости пролетела машина председателя Курского горсовета.
«Это неспроста», — подумал Гурам, отвлекаясь от своих грустных мыслей. Он остановился возле группы людей, горячо о чем-то споривших. Оказывается, у железнодорожного переезда близ гипсового завода нашли мину и снаряд.
Вездесущие и всезнающие мальчишки авторитетно заявляли, что найден не один снаряд, а десять, и даже не десять, а пятьдесят три.
Гурам послушал болтовню ребят и побрел дальше.
До казармы было далеко. Он вполне мог сесть на трамвай или автобус, но шел пешком. Незаметно для себя начал шагать размашисто и упрямо, со злостью сбивая с дороги случайные камешки.
Мимо неслась колонна милиционеров на мотоциклах. В том же направлении быстрым шагом проследовал усиленный наряд военных патрулей.
«Все же что-то случилось», — подумал Урушадзе, но тут же снова вернулся к своим мыслям.
В казарму Гурам пришел перед самым ужином, когда собирается вся рота. А ему никого не хотелось видеть. В последние дни, где бы он ни появлялся, говорили только о нем. О нем и о Вале. Над ним подтрунивали, а он только посмеивался. В шутках товарищей он не видел насмешки. Наоборот, эти шутки под внешней грубоватой формой не могли скрыть, а лишь подчеркивали теплые солдатские чувства к нему и к Вале. В них выражалась и полная поддержка его решения уехать вместе с ней.
Эту маленькую, хрупкую девушку, почти девочку, с наивными голубыми глазами знали и уважали все друзья Гурама. На первых порах она стеснялась их и, здороваясь, казалось, с испугом протягивала свою тоненькую руку, которая едва могла обнять широкую солдатскую ладонь. Постепенно она привыкла к этим веселым здоровякам и, несмотря на свою стеснительность, великолепно чувствовала себя среди них. В шутку она даже отдавала им команды.
— Рядовой Маргищвили! — строго говорила она. — Срочно подайте мне сумку. А вы, младший сержант, доложите, все ли готовы к маршу в кино.