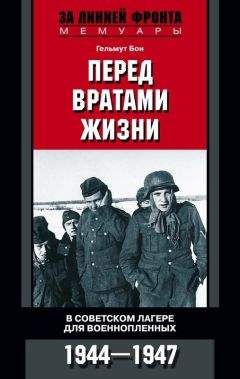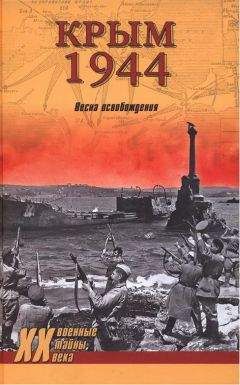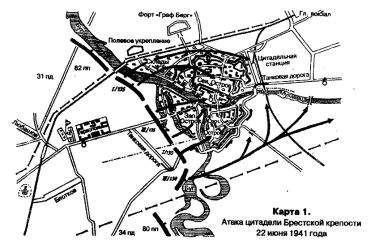По улице бредет босая старушка. Даже летом она не снимает теплую телогрейку.
Рядом с ней стоит девушка в нейлоновых чулках и туфлях на высоком тонком каблуке.
Элегантность рядом с примитивностью.
Страшная нищета рядом с хвастливым богатством.
Часто не знаешь, пьян лежащий в пыли попрошайка или просто спит, а может быть, уже и мертв.
Офицеры чинно прогуливаются со своими дамами.
Дети, всегда чистенькие и хорошо одетые, играют в свои игры, которые, видимо, одинаковые во всем мире.
По вечерам парочки спешат в парк культуры и отдыха, где оркестры приглашают на танцы. Кто будет спорить с тем, что эти девушки в своих ярких летних платьях и с пышными прическами чертовски привлекательны.
Но здесь же видишь не только по ночам, но и днем, как проезжают грузовики, до отказа набитые гражданскими, которых охраняют конвоиры с автоматами наперевес.
Нигде в мире, не испытываешь приятного чувства, когда проходишь мимо здания тюрьмы. Но русская тюрьма — это настоящая крепость безжалостного унижения заключенного. Трехметровые деревянные заборы. По углам сторожевые вышки. Мрачное здание без окон внутри. И только у ворот постоянно стоит толпа: женщины, дети и старики, которые хотят еще раз увидеть своих близких. Время от времени ворота открываются, чтобы пропустить автомобили с решетками на окнах или открытые грузовики для перевозки больших партий заключенных.
Когда я выезжаю на нашем лагерном грузовике за город, чтобы привезти картошку, то на окраине города перед шлагбаумом нас останавливает патруль. Водитель обязан предъявить документы на машину и свои водительские права. Часто проверяют документы и у всех прохожих. И такое происходит осенью 1947 года в Иванове, крупном советском городе, как будто находящемся на осадном положении.
Я боюсь, что это и есть та новая свобода, которая ожидает нас и в Германии.
Когда в сентябре я получаю свои первые сто рублей, то воспринимаю это как еще один шаг к свободе.
Вместе с Грегором я шагаю по Советской улице. Я покупаю четверть буханки хлеба и сливочное масло. Двести граммов хлеба и двадцать граммов масла. Семь рублей и двадцать копеек. Продавщица со своим маленьким стеклянным ящиком, в котором она предлагает прохожим на улице свой драгоценный товар, тотчас оказывается в центре внимания, и ее со всех сторон атакуют жаждущие потратить свои рубли. Распродав весь товар, она лишь с большим трудом выбирается из толпы.
Я решаю сфотографироваться. Одна очень маленькая фотография стоит десять рублей. На главной улице города много фотографов, предлагающих свои услуги. Каждому российскому гражданину постоянно нужны новые документы, удостоверения, всякие справки, к которым необходимо прилагать фотографию и отпечаток большого пальца руки.
Со своими рублями в кармане я захожу также в центральную городскую библиотеку. Наша библиотека для военнопленных получает отсюда книги во временное пользование, поэтому я имею право разговаривать с библиотекаршей отдела иностранной литературы.
Сегодня я хочу взять книгу лично для себя. «Тихий Дон» Шолохова. Но я выбираю английское издание. За это я должен оставить в качестве залога тридцать рублей. Зажав книгу под мышкой, я направляюсь домой, точнее говоря, в 13-й лагерь для военнопленных.
Я с упоением читаю до поздней ночи.
Это для меня как глоток свободы.
Но даже это нам вряд ли разрешено. Грегор говорит мне:
— Я не хочу тебе указывать, но я не думаю, что управление согласится с тем, что ты берешь в городской библиотеке книги на английском языке.
— Почему? — удивляюсь я. — Ведь совершенно все равно, на каком языке я читаю книгу: на немецком, русском или английском. Главное, что это советская книга. А Шолохов входит в число самых известных советских писателей.
— Как я уже сказал, — прерывает меня Грегор, — я не хочу тебе указывать, я просто хотел тебя предупредить!
Кроме того, у нас в Центральном активе имеется достаточное количество книг, так что мне действительно нечего опасаться, что я лишусь возможности заниматься самообразованием.
Из советской зоны оккупации регулярно поступают немецкие газеты, часто на третий день после появления в Берлине они уже у нас. В нашей собственной библиотеке для военнопленных имеется несколько тысяч томов, книг и брошюр. Толстой, Достоевский, которого капитан Белоров оценивает не очень высоко. Здесь же произведения французских писателей: Бальзак, Гюго. Есть и немцы: Гёте, Гейне, Шиллер.
А я являюсь к тому же и библиотекарем и могу выбирать что хочу, когда укладываюсь по вечерам на свою кровать, которая стоит под лампой у стены с лозунгом: «Да здравствует мудрый Сталин, великий вождь народов!»
Мы хорошо ладим друг с другом, все двенадцать человек нашего Центрального актива.
Каждые четырнадцать дней мы устраиваем «производственный праздник», как мы это называем. Мы сдвигаем длинные рабочие столы и завариваем такой крепкий натуральный кофе, в котором ложка может стоять. И потом начинается праздник.
Мы приглашаем к себе трех музыкантов. Иногда и Эгон Крамер играет на скрипке. Или венгр, который обижается, если его пиликанье мы слушаем не очень внимательно.
Тогда он заявляет, что тем самым мы оскорбляем всю венгерскую нацию, так как не слушаем.
Потом наступает черед проявить свое мастерство нашего художника Кристофа Либетраута, который прекрасно играет на гитаре и поет как в каком-нибудь портовом кабачке: «Гуд-бай, Джонни».
Или же он рассказывает историю своей первой беспутной любви. А в заключение мы поем все хором. Правда, мы не исполняем ни Интернационал, ни песни Союза свободной немецкой молодежи. Напившись крепкого натурального кофе, мы поем обычные немецкие шлягеры или английские песни. Ведь мы, как-никак, кучка искателей приключений, которые с удовольствием совершили бы кругосветное путешествие.
Но иногда мы поем в заключение простую немецкую народную песню «У колодца у ворот». На два голоса. У Эгона Крамера прекрасный бас. Такое мы тоже любим петь, потому что хотим домой. Точно так же, как и любой другой пленный!
Мы всегда хотим и того и другого. В этом трагизм нашего положения.
Мы хотим путешествовать по миру и хотим вернуться домой на родину.
Мы хотим, чтобы победил социализм, но каждый из нас выступает против жестких предписаний.
Когда мы сидим вот так все вместе, то часто рассказываем и о своей прежней жизни, особенно Конрад.
Конрад охотно рассказывает и о своей деятельности в качестве передового наблюдателя в немецком вермахте. Он приходит в восторг, когда говорит о пушках. Он сам замечает, что такой милитаристский восторг стоит в неком противоречии с демилитаризацией:
— Кто знает, возможно, нам придется еще раз применить свои знания в военной области. Но тогда уже на правильной стороне. Если речь пойдет о выступлении против капиталистических поджигателей войны, то я не останусь в стороне.
Конрад охотно рассказывает также и о том времени, когда был командиром подразделения «Юнгфолька». Ведь это было не так уж и давно. Его взвод «пимпфов», мальчишек 10–14 лет, всегда был в порядке.
— Я убежден в том, что те «пимпфы», которые были в моем взводе, наверняка всегда оставались в полном порядке. Сегодня они стали бы восторженными антифашистами! Вот такие это были ребята!
Сам Конрад как раз порядочный человек, и он испытывает насущную потребность рассказать о том, чем занимался в прошлом.
Но ведь он уже седьмой год находится в плену. Ему совсем недавно исполнилось двадцать пять лет. Все его политические взгляды формировали товарищи из Москвы. До сих пор он вступал в споры только с пленными и никогда со свободными людьми. Он живет в своем собственном мире иллюзий.
Он даже не подозревает, что со временем стал трусливым. У него самого не хватает гражданского мужества, о котором он так часто говорит, когда дискутирует с пленными.
Например, у него не хватает мужества поставить перед лейтенантом Михайловым вопрос о нашем возвращении на родину. Юпп Шмитц и Эгон Крамер делают это за него.
— О Центральном активе уже позаботились, камрады! — успокаивает нас лейтенант Михайлов.
Существует несколько вариантов: или мы все вместе едем в Ленинград, где вскоре начнет работать товарищ лейтенант Михайлов, или мы уезжаем домой, если в Иванове будут закрыты все лагеря для военнопленных. Возможно, кое-кому из нас повезет, и у него появится возможность посещать школу в Москве, то есть своего рода антифашистский университет.
— Я бы пожертвовал на это еще полгода! — говорит Эгон Крамер.
— Я бы тоже это сделал, — соглашаюсь я с ним. — Только я хотел бы иметь гарантии, что действительно смогу учиться в этой школе, а не окажусь снова в лесу на лесоповале!