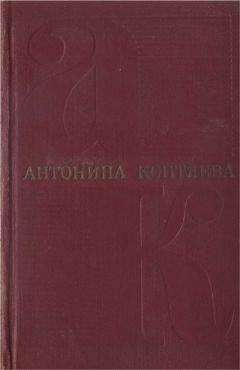Снова раздаются шаги… Гулко топают по мерзлой земле ноги врага.
Мелеша вскакивает и, единым духом проскочив через изрытые грядки, скатывается в щель. Там темно, дым ест глаза. Яма в метр шириной тянется в длину метров на десять. Сверху она накрыта поломанными кроватями, досками, обгорелой кровельной жестью и завалена землей. Здесь много людей: женщины, ребятишки, старики.
Все ослабели от голода и выползают из этой норы только по приказу полицаев: для составления списков.
Сестра Мелеши и отец сидят у печурки, устроенной в земляной нише. Глаза их бессмысленно устремлены на крохотный, еле тлеющий костерчик. Но оба оживляются, когда мальчик, перешагивая через ноги обитателей щели, подходит вплотную.
— Принес. — Он присаживается на корточки, доставая из кармана куски лепешки, нехотя, сурово хмуря белесые брови, берет свою долю. — Проклятый фриц! А Катюте я задам! Я ей засвечу кирпичом по жирной морде.
Отец и сестра молча жуют.
Маленький яркий огонек ворочается в печурке… Под ногами настлана примятая солома. Хорошо еще, что можно топить печурку. Хорошо, что можно спрятаться от ненавистных, до нелепости жестоких пришельцев в эту кротовью нору… Нужно иметь неуемно жаркий мальчишеский характер, чтобы вот так бегать и злиться из-за чужой подлости.
Неподалеку от щели — «лагерь смерти», небольшая лощина, обнесенная колючей проволокой. Валяются трупы в красноармейской одежде. Живые едва бродят возле землянок. Жара там была летом… Мух там! Когда на огородах еще зрели овощи, хуторские мальчишки подкидывали пленным сырую и печеную картошку, бураки, морковь. Мысль о том, что свои, советские бойцы умирают с голоду, не давала хуторянам покоя. Потом они сами стали с трудом таскать опухшие ноги и примирились с лагерем, как с Катютей, как с девками-«шоколадницами», как со всем своим неправдоподобно страшным бытом. Но многие ждали: вот вернутся наши! Ждал и Мелеша Чеканов.
Он смотрит на огонек и думает. Он вообще много стал думать за последнее время и иногда кажется самому себе стариком: сидит у печурки, а в голове мысли разные плетутся. А разве сейчас можно так сидеть? Влезть бы в танк, катануть по улицам и пушить фашистов направо-налево — и из пулемета, и из орудия. Но ведь это уметь надо!
Однажды в темную ветреную ночь Мелеша повел двух лучших приятелей к своему складу боеприпасов…
Вскоре у немцев взлетела на воздух походная кухня.
— Наверно, повар подвыпил и вместо полена сунул в топку снаряд, — сказал сестре Мелеша.
Сестра только вздохнула:
— Подведете вы нас всех!
Вскоре, бросив «лимонку» в проходившую по степи машину, груженную боеприпасами, Мелеша потерял руку: граната, разорвавшись при броске, оторвала ему правую кисть. На его счастье, водитель не задержался, испугавшись партизан. Хуторянка, работавшая раньше сестрой в госпитале, сделала Мелеше «операцию», и культя, хотя и неровная, зарубцевалась очень быстро.
И вот теперь Мелеша, похожий на старичка со своими белыми вихрами, лезущими на белые брови, сидит, обуреваемый жестокими думами. Сурово щурятся ясно-карие глаза в светлых ресницах. Надо что-то делать… Поджечь автоколонну с бензином? Подсунуть мину в дом, где помещается немецкая комендатура и где каждый день истязают людей? Запалить родной хутор со всех четырех сторон? Нельзя дольше сидеть и ждать!
24
У Эриха Блогеля пропала со стола коробка сигарет. Блогель усмотрел в этом вылазку со стороны местного населения.
— Слушайте, Фриц, — сказал он начальнику полевой жандармерии Флемиху. — Скоро у нашего генерала выкрадут портфель с секретными документами!
— Я разберусь! — пообещал Флемих. — Пора проверить здешние катакомбы. Воздух в тылу уже застоялся, и местные жители начинают забываться. Жаль, что пропал без вести наш доктор Клюге. Это был изощренный специалист по массовым акциям. Наверно, русские содрали с него толстую его шкуру, и теперь он налегке поет с херувимами хвалу господу. С его благословения мы и начнем кампанию. Я хочу продемонстрировать этот случай, а от него перейду к более широким мероприятиям.
Вскоре Флемих позвонил приятелю:
— Приходите посмотреть на преступников! Я изъял десяток хуторских мальчишек, а заодно и их родителей.
Блогель уже нашел свою пропажу в ящике стола, но сознаваться в ошибках было ему несвойственно, тем более что речь шла о русских, и повод для расправы оказался кстати.
Когда Мелешу и его отца уводили жандармы, сестра упала замертво. Она поняла, что это уже конец. Но Мелеша был уверен в ином: станут ли жандармы всерьез возиться с ребятишками? Так, просто напугать хотят.
Однако Мелеша ошибся. Мальчиков били до потери сознания, вытаскивали на холод, отливали водой и снова пороли на глазах связанных родителей. Истерзанных до неузнаваемости детей проводили в назидание остальным по хутору, по голым пустырям и огородам, — зрелище, заставлявшее даже немецких солдат опускать глаза. Бабы-хуторянки, несмотря на угрозы полицаев, выли в голос. Тяжкое зрелище представляла собой группа мальчишек с разбитыми и опухшими лицами, со спинами, изрубленными плетьми, сквозившими в лохмотьях окровавленной одежды. Мелеша шел вместе со всеми, смотрел на тонкую — хоть перерви — шею идущего перед ним девятилетнего Петьки, сына колхозного полевода, на острые лопатки его, видневшиеся из продранной, прилипшей к телу рубашки. Петька двигался неровным шагом пьяного. Ребята постарше помогали ему идти.
«Он и курить-то не умеет, — думал Мелеша о Петьке. — Я тоже этих сигарет в глаза не видел. Но я все-таки навредил фрицам, взорвал кухню…»
— Так вам и надо, выродкам! Сопли утирать не научились, а туда же — бунтовать! — сказала Катютя, встретив необычную процессию, с усилием нагнулась, взяла горсть мерзлого песку и бросила в ребятишек.
К ночи арестованных отвели в пустой подвал и закрыли, не отделив малых от взрослых, и это сразу всех насторожило. Темно. Холодно. Дети молча жались друг к другу, к родителям. Никто не спал, но даже стонов не было слышно. Когда кто-нибудь начинал стучать зубами, его нащупывали и тихонько пропускали в середину, где потеплее. Давит душу смертная тоска. Вот войдут сюда в сумерках серого предзимнего утра и посекут всех очередями из автоматов. Мелеша видел трупы в подвалах хуторских домов… Болит все тело, в ушах звон в тысячу колоколов. Левая рука теперь тоже никуда не годится — не то сломали ее, не то вывихнули. А что почувствуешь, когда станут убивать? Больно? Или только страшно? Потом закоченеешь и никогда уже не очнешься. Не будет тебя… Не увидишь весной, как оденется степь яркими свежими цветами, не побежишь с удочкой на Дон росистым утром, в золотой рассвет, когда поют петухи, а река, подернутая молочным паром, так и зовет тебя в укромные заводи. Дед, довольный рыбалкой, сидит на веслах и щурится, улыбаясь…
— Дедушка, зачем ты меня бросил? — кричит Мелеша, и мальчишеский голос его, пронизанный горестью, пугает всех.
— Молчи, сынок! — Инвалид Чеканов шершавой ладонью закрывает рот мальчика.
Лицо Мелеши обжигает его сухим жаром.
— Дедушка, куда ты, дедушка?!
— Бредит, знать. Ах ты, горе какое!
— Батя! Это ты, батя? Выдь посмотри, не идут ли наши! Бежимте к красноармейцам. Петьку, Петьку не забудьте!
Темная ночь томит страхом близкой смерти. Молча смотрят во тьму малые и старые, и все вздрагивают, когда раздается голос бредящего Мелеши:
— Батя, посмотри, не идут ли наши!
Девятилетний Петька всю ночь молчаливо жался к отцу и только на рассвете, не выдержав мук холода и ожидания, заплакал.
Когда серый день выделил из мрака меловые задонские горы, подернутые чернью дубовых рощ, проснулся в нагретых пуховиках зябкий, как змееныш, Фриц Флемих. Он вызвал парикмахера, дал себя побрить, обмыть, надушить, застегнул ремень с револьвером на левой стороне, потом не спеша позавтракал.
Твердые шаги, приближаясь, гулко звучали по мерзлой земле, и каждый шаг больно отдавался в сердце тех, кто прислушивался… Ближе, ближе. Дверь распахнулась… Все молча смотрели на дула автоматов. Только маленький Петька сказал:
— Зачем мы не убежали к красноармейцам?!
25
Часа в четыре ночи сквозь вой и свист разыгравшейся метели донесся мощный глухой гул.
— Что такое? — спросил Блогель, взглянув на своих приятелей, собравшихся на веселой попойке.
Они сидели вокруг стола распоясанные, с расстегнутыми воротниками, красные от вина и жары: в доме горели большие керосиновые лампы и все время топились печи.
Флемих целый день после расстрела мальчишек занимался арестами и допросами жителей и очень утомился. Приподняв бледное лицо, не оживленное и разгулом, он вслушался, поводя водянисто-светлыми глазами.
— Это на нашем левом фланге. Странно!