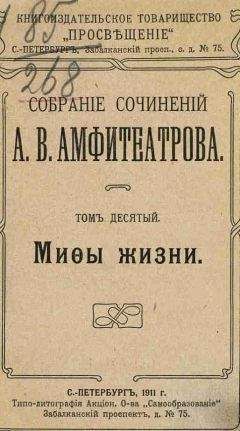Александръ Амфитеатровъ
(Old Gentleman)
Мурадъ-разбойникъ
Тихая безлунная ночь — нѣмая и холодная.
Огромныя зеленыя звѣзды дрожатъ надъ узорчатымъ карнизомъ ущелья, глубокаго и узкаго, какъ колодезь. Рычитъ, ворочая камни, сердитый потокъ. Тоскливо воетъ вдали голодная чекалка… Зима! еще безснѣжная, но уже студеная горная зима.
Мурадъ лежитъ и дрогнетъ подъ дырявою буркою, на днѣ ущелья. Онъ смотритъ на небо и, по Большой Медвѣицѣ точно падающей къ нему съ неба сверкающимъ дышломъ впередъ, соображаетъ:
— Дѣло къ полночи. Наши теперь спять; хорошо имъ въ саклѣ, согрѣтой огнемъ очага и дыханіемъ многолюдной семьи… Съ вечера, небось, набили животы и пшеномъ, и варевомъ изъ сухихъ бобовъ… А вотъ, какъ второй день крохи во рту не было, да, вмѣсто очага, должна тебя грѣть впадина обледенѣлаго утеса, — тутъ не разоспишься!..
Костеръ развести Мурадъ не смѣетъ. Въ полуверстѣ отъ его логовища — проѣзжій трактъ; потянетъ дымомъ въ ту сторону, — у казаковъ-объѣздчиковъ носъ чуткій: пропала Мурадова голова!.. Не быть ему тогда къ утру въ родной саклѣ, у красавицы жены. Скрутятъ ему, сердечному, руки къ лопаткамъ и отведутъ, на арканѣ, въ городъ. А тамъ — тюрьма, судъ и Сибирь, коли еще не висѣлица, потому что не баба же Мурадъ и не на то у него берданка за плечами, кинжалъ и револьверъ у пояса, чтобы сдаться по первому окрику объѣздчиковъ. Нѣтъ, онъ не таковскій! онъ сперва двухъ-трехъ уложитъ, самъ получить двѣ-три раны и, если ужъ попадетъ въ руки правосудія живымъ, то не иначе, какъ изстрѣлянный, изрубленный, исколотый въ рѣшето.
Мурадъ вчера лишь, въ сумерки, перешелъ русскую границу. Три мѣсяца назадъ, затравленный полиціей, съ двумя убійствами и дюжиной грабежей на шеѣ, онъ, бросивъ жену и домъ, бѣжалъ на родину, въ Пepciю. Тамъ у него не было ни кола, ни двора, но, пока стояло тепло, — что за бѣда? Скитался по рынкамъ оборваннымъ, но вольнымъ байгушемъ: кормился, какъ птица Божія, — чѣмъ угощала щедрая южная природа. Когда приходилось ужъ очень туго, нанимался на поденную работу. Его никто не трогалъ, и онъ никого не трогалъ. Въ первые дни, какъ появился онъ въ пограничномъ персидскомъ городкѣ, купцы на рынкѣ зашептались было между собою… Пришелъ сарбазъ, хлопнулъ Мурада по плечу и сказалъ:
— Иди, малый, за мною: тебя хочетъ видѣть судья.
Услышь Мурадъ такія слова по сю сторону Аракса, въ Россіи, онъ бы не раздумывалъ долго: солдату — кинжалъ въ брюхо, два выстрѣла въ окружающую толпу, чтобы шарахнулась подальше, прыгъ на первую попавшуюся лошадь и — поминай, какъ звали! Но тутъ онъ весьма покорно поклонился, сказалъ:
— Радъ служить господину моему! И послѣдовалъ за своимъ вожатымъ. Судья, худой, длинный старикъ, съ крашеною бородою, долго пронизывалъ Мурада спокойнымъ взглядомъ, насквозь видящимъ душу человѣческую.
— Ты Мурадъ? — спросилъ онъ наконецъ.
— Да, господинъ.
— Ты пришелъ къ намъ изъ-за Аракса. Зачѣмъ пришелъ?
— Вы сами знаете, господинъ.
Судья усмѣхнулся, погладилъ бороду и сказалъ:
— Знаю. Отъ насъ за Араксъ идутъ за богатствомъ, а къ намъ изъ-за Аракса бѣгутъ отъ казацкой пули и сибирскихъ снѣговъ. Ты таковъ же, какъ всѣ. Но объ этомъ не надо говорить.
— Русскіе меня ищутъ, господинъ.
Судья закрылъ глаза и долго молчалъ.
— Они всегда ищутъ, — возразилъ онъ. — Намъ будутъ о тебѣ писать.
Онъ пытливо воззрился въ лицо Мурада, а тотъ, при словѣ «писать», почувствовалъ себя на днѣ пропасти: для него, безграмотнаго удальца-налета, перо и бумага были оружіемъ — куда! и не сравнить! — страшнѣе казачьихъ берданокъ. Судья, все съ тѣмъ же вопросительнымъ взглядомъ, провелъ рукою по своему горлу: было, дескать? Мурадъ виновато опустилъ голову.
— Сколько? — спросилъ судья.
— Двухъ всего… — былъ сокрушенный отвѣтъ.
— Гм… однако!
Во взорѣ судьи засвѣтилось нѣчто, похожее на уваженіе.
— Русскіе были?
— Нѣтъ, господинъ, армяне…
Опять долгое молчаніе, опять сухая рука съ крашеными ногтями ласкаетъ огненную бороду.
— Намъ о тебѣ будутъ очень много писать.
Дно пропасти подъ ногами Мурада углубляется на цѣлую сотню саженей.
— Господинъ! — кричитъ онъ и валится въ ноги, — неужели вы меня выдадите невѣрнымъ?
— Гм…
Мурадъ колотится лбомъ о каменныя ступени крыльца, цѣлуетъ коверъ, на которомъ сидитъ судья, тянется къ его туфлѣ.
— Гм…
Мурадъ вспоминаетъ, что у него за пазухою есть мѣшочекъ съ десяткомъ русскихъ золотыхъ и парою дорогихъ перстней, снятыхъ съ убитаго купца-армянина. Онъ вынимаетъ свои сокровища и, — съ полною готовностью претерпѣть, въ твердой увѣренности, что такъ и слѣдуетъ, что иначе быть не можетъ, — повергаетъ ихъ къ стопамъ судьи.
— Гм… — слышитъ онъ уже болѣе ласковое, почти отеческое мычаніе, — видишь ли, сынъ мой: не въ обычаѣ нашемъ выдавать невѣрнымъ своихъ единовѣрцевъ и одноплеменниковъ; къ тому же ты щедръ, вѣжливъ, понимаешь, какъ надо обходиться съ людьми высокопоставленными. Но, сынъ мой, эти проклятыя невѣрныя собаки въ дѣлахъ, подобныхъ твоему, бываютъ ужасно настойчивы. Поэтому — чтобы не подвергать себя опасности, а насъ непріятности тебя выдать — сдѣлай, сынъ мой, милость: пропади куда-нибудь въ тартарары… Открыто твоего присутствія въ городѣ мы не желаемъ, но живи, сколько хочешь! А если будутъ намъ писать изъ Эривани, отписаться будетъ наше дѣло. Не знаемъ, молъ, такого, не видали, не слыхали, не понимаемъ, о комъ вы говорите, — ищите, коли можете, у себя, а у насъ нѣту…
— Господинъ! Богъ помянетъ доброе дѣло твое на послѣднемъ судѣ!
— Но! — лицо и голосъ судьи дѣлаются строгими. — Если ты вздумаешь продолжать здѣсь свои шалости… знаешь?
— Очень хорошо знаю, господинъ.
— Я велю обрѣзать тебѣ носъ и уши, потомъ тебя засѣкутъ плетьми до полусмерти, а наконецъ, уже полумертваго, повѣсятъ.
— И твой судъ будетъ правъ, господинъ. Потому что — такъ мнѣ и надо, если я, въ отвѣтъ на гостепріимство, подниму руку противъ братьевъ моихъ, какъ поднималъ ее на невѣрныхъ.
— Не о томъ рѣчь, — перебиваетъ судья. Дѣло не о вѣрныхъ и невѣрныхъ. Вообще, не смѣй шалить въ нашемъ околоткѣ. Армянина — и того не моги тронуть! Понялъ? А не то — уши, носъ, плети и секимъ-башка!
Но, замѣтивъ, что, при воспрещеніи посягать даже на армянское благополучіе, лицо Мурада исполнилось самаго тоскливаго недоумѣнія, судья прибавилъ:
— Ну, а ужъ если тебѣ не терпится, — ступай на турецкую границу… Тамъ это можно.
— Можно-то можно, — размышлялъ Мурадъ, уходя отъ судьи нищимъ пролетаріемъ, — но за то вѣдь тамъ, на турецкой границѣ, не однѣ овцы, а и волки живутъ: шайтаны-курды! Они смотрятъ на армянъ, какъ на свою законную собственность. Ограбить ихняго армянина — это значить залѣзать къ нимъ въ карманъ, чего они терпѣть не могутъ. У нихъ одно курдское племя съ другимъ дерется насмерть за право, кому изъ двухъ ограбить армянскую деревушку. Такъ чужой туда лучше ужъ и не суйся… Ухлопаютъ вѣрнѣе казаковъ и съ пущею охотою, чѣмъ армянина! И чего жадничаютъ? Какъ будто Богъ мало армянъ поселилъ на свѣтѣ? На всѣхъ бы добрыхъ мусульманъ хватило!
Въ концѣ-концовъ, Мурадъ прожилъ цѣлое лѣто мирнымъ гражданиномъ. Иной разъ въ немъ разгорались привычныя вожделѣнія, рука сама ползла къ горлу какого-нибудь купца, у котораго на поясѣ болтался богато нагруженный денежный кошель, но… раза два-три въ недѣлю онъ встрѣчалъ на рынкѣ или у входа въ мечеть судью, видѣлъ его черные колючіе глаза съ желтыми бѣлками — и, хотя судья какъ будто даже не замѣчалъ его, Мурадъ почему-то невольно читалъ въ черножелтыхъ глазахъ этихъ: носъ, уши, плети, висѣлица. И онъ бросалъ свои мечты объ армянскихъ поясахъ съ золотыми монетами, объ оправленномъ въ серебро оружіи и — съ глубокимъ вздохомъ — шелъ копать канавы для орошенія полей, снимать виноградъ, жать спѣлый хлѣбъ. Разбойникъ притворялся работникомъ, ибо — носъ, уши, плети до полусмерти и висѣлица для полумертваго, — съ такими перспективами не шутятъ…
Но вотъ пали холода, дѣло шло къ зимѣ. Пролетарій вспомнилъ, что у него за Араксомъ есть домъ и семья, разбойника потянуло къ своему углу, къ теплому очагу, къ красивой женѣ, къ ребенку.
— Иду въ Россію! — говорить Мурадъ пріятелямъ-поденщикамъ.
— Стало быть, жизнь и воля надоѣли? Ступай, дуракъ! тебя тамъ давно уже поджидаютъ. Заждались!
— Будто ужъ такъ, едва я ступлю за Араксъ, тутъ меня и поймаютъ?
— А почему тебя не поймать?
— Я знаю въ горахъ такіе закоулки, гдѣ не ступала русская нога.
— Такъ неужели ты возвращаешься въ Россію затѣмъ, чтобы прятаться по горнымъ закоулкамъ?
— Нѣтъ, — я хочу видѣть свою жену, сына, тестя, тещу…
— Ну, смотри, братъ!
— А что?
— Да — чтобы свои-то и не выдали тебя, какъ выдавали многихъ, многихъ… Не тотъ теперь народъ пошелъ. Это старики были крѣпки на расправу. А теперь — народъ жидкій: пригрозитъ начальство, — и выдадутъ.