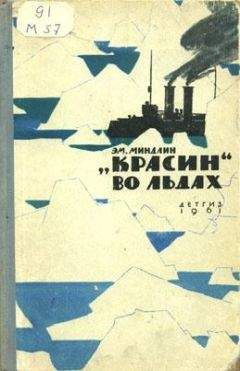Александр Александрович Бестужев-Марлинский
Вечер на Кавказских водах в 1824 году [1]
– Зачем от нас могил ужасный клад
Видения и страхи сторожат?
– Вот Эльбрус, – сказал мне казак-извозчик, указывая плетью налево, когда приближался я к Кисловодску; и в самом деле, Кавказ, дотоле задернутый завесою туманов, открылся передо мною во всей дикой красоте, в грозном своем величии.
Сначала трудно было распознать снега его с грядою белых облаков, на нем лежащих; но вдруг дунул ветер – тучи сдвинулись, склубились и полетели, расторгаясь о зубчатые верхи. Солнце западало. Розовый, неизъяснимо прелестный румянец таял на голубоватых и словно прозрачных льдах горного гребня, и мимолетные пары, расцвеченные всеми отливами радуги, оживляя их игрою теней, придавали еще более очаровательности картине. Я не мог наглядеться, не мог налюбоваться Кавказом; я душой понял тогда, что горы есть поэзия природы. Чувства мои стали чище, думы яснее. Я мог словами поэта сказать тогда:
Там горести, там страсти яд немеет, Там юностью невянущею веет, Забвение, целительной рукой, На сердце льет усладу и покой; Душа слита с возвышенной природой, И дышит грудь бессмертною свободой!
Но заря догорала. Одни за другими гасли вершины гор; только двуглавый Эльборус сиял двумя звездами над океаном туч… наконец и он утоп во мраке. Изредка перепадали крупные капли дождя; ветер вздувал по степи пыльные столбы, и телега моя неслась будто наперегонку с ними.
– Далеко ли? – спросил я извозчика.
– Полверсты, – отвечал он.
В тот же миг сверкнула молния и озарила передо мной новую станицу линейных казаков[2] и дальше домы и домики для приезжих на воды. Спешить мне было не для чего, и я решился провести в Кисловодске день и другой, чтобы удовлетворить любопытству: посмотреть общество и увидеться с знакомыми.
Зоревой барабан гремел и раздавался в окрестности, когда вошел я в залу гостиницы, где за ужинным столом нашел двух добрых моих приятелей. Поменявшись новостями и перебрав по зернышку старину, мне досужнее стало прислушиваться к общему разговору. Ужин кончился, но человек десять романтиков насчет покорности к предписаниям эскулапа не думали покидать стола, и по числу опустошенных бутылок я заключил, что кавказская вода имела для них чудесное свойство – возбуждать жажду к вину.
– Ну что наши московские красавицы? – сказал молодой человек в венгерке, значительно поглядывая на капитана Нижегородского драгунского полка[3] и капитана гвардии, между которыми сидел он. Приятель мой, склонявший мне имена и качества каждого, шепнул, что это матушкин сынок, приехавший сюда из белокаменной лечиться от застоя в карманах.
– Милы, как всегда, – отвечал гвардеец, равнодушно покачиваясь на стуле.
– Скажите – божественны! – с жаром воскликнул усатый драгунский капитан. – Можно ли так сухо говорить о красавицах? Эй, мальчик, – шампанского!
– Позвольте сказать мне по-дружески, любезный капитан, – возразил гвардеец, – вам не мудрено восхищаться ими, после долгих лет, проведенных на бессменной страже или в перестрелках и наездах. Видя женщин, как луну, только на телескопическом расстоянии, всякий примет первую образованную даму, с которою встретится он лицом к лицу, за идеал совершенства; но причина этому не в ней, а в нем. Вы горите, сами и воображаете, что они сияют.
– Тут есть много истины, капитан, но между много и все – целое море. Я не говорю о кавказских татарках, из которых самая красивейшая, по рабским привычкам своим, достойна только закуривать трубки, ни о грузинках, в которых одна глупость может сравняться с красотою. Черкешенки вовсе иное дело, – да мы осуждены любоваться ими как недоступными вершинами Кавказа и видим их едва ль не реже солнечного затмения. Но я сам жил и служил в столицах; видел свет не в подворотню, и образованная женщина хотя здесь для меня и редкость, но никогда не может быть диковинкою.
– Не по хорошу мил, а по милу хорош, – сказал толстый рязанский помещик, улыбаясь, как воображал он, очень лукаво.
– Эта пословица мне не соседка, – отвечал усач. – Я говорю беспристрастно и утверждаю, что на этот раз обе московские красавицы милее здешних петербургских умниц в блузах, с вечными рассказами о погоде и поправками адрес-календаря, помещиц в капотах, которые всякого мужчину принимают, кажется, за амбар для складки отчетов своих о вине, и льне, и ячмене, о садоводстве и скотоводстве, в котором не мудрено им успеть, обращаясь часто со своими супругами! Господа! Здоровье двух прекрасных московок!
Видя, что рыцарь разгорячился, собеседники, уважая добрый его нрав, не сочли за благо подстрекать его еще более противоречиями. Все напенили бокалы и выпили в лад.
– Здоровье прекрасных посетительниц Кавказских вод, на берегах Москвы расцветших! – воскликнул нежный сотрудник дамского журнала, повторяя по-своему предложенное здоровье.
– Этот же тост, в переводе господина Свирелкина с моего бивачного языка на язык светский: кто не пьет – не товарищ!
(Пьют и чокаются.)
– Между нами, капитан, – сказал ему гвардеец, – белокурая или черноволосая сестра вам более нравится?
– Этот же самый вопрос я делаю самому себе двадцать четыре раза в сутки и до сих пор не добьюсь я у своего сердца толку: оно уверяет, что и утренняя и вечерняя заря прелестны. В полдень, любуясь нежными, небесными глазами и пленительною томностью лица блондинки, я бы готов был влезть в ее соломою оплетенный стакан, чтобы коснуться розовых губок и потом растаять в кислой воде; но при свечах или при лунном сиянии пронзительные взоры и пылкий румянец брюнетки зажигают меня как гранату, и я рад кинуться на чеченские шашки, чтобы до нее прорубиться.
– Полноте вздыхать, господин адъютант! Чокнемся лучше да выпьем за здоровье прелестного румянца нашей богини.
Адъютант закраснелся и выпил.
– Именным бы указом запретил красавицам, у которых в лице играет румянец, ездить на воды, – сказал чахоточный прокурор, поправляя в ухе хлопчатую бумагу, – они делают больными здоровых и мешают больным выздоравливать.
– Что так строго, господин прокурор? – возразил артиллерийский ремонтер[4] обвинителю. – Я уверен, что не любовь, а деловые экстракты причины ваших недугов.
– То есть уксус, который выжимали вы из справок, – прибавил москвич.
– Настоящий vinaigre de quatre voleurs![5] – наддал еще драгунский капитан, недавно проигравший тяжбу и сердитый.
– Вам бы надобно было довольствоваться только запахом, а вы хотели выпить все до дна.
– Господа! – отвечал прокурор, поглядывая то направо, то налево, в нерешимости, рассердиться ему или принять град насмешек за шутку; наконец он рассчитал, что последнее выгоднее. – Господа! – повторил он, – конечно, мне бы следовало довольствоваться одним запахом, но тогда я не имел чести иметь вас высоким примером скромности – вас, которые так счастливы в любви одним гляденьем.
– Браво! браво! – воскликнули многие голоса сквозь смех. – Здоровье больной юстиции!
И бокалы засверкали донышками.
В это время молодой человек, прекрасной наружности, закутанный шалью, который задумчиво сидел против меня и часто с беспокойством поглядывал на часы, встал и подошел к окну. Выразительно было бледное лицо его, и его впалые черные очи, казалось, хотели пронзить темноту и дальность.
– Облака заволакивают месяц, – сказал он вслух, но более обращаясь к самому себе, чем к обществу, – ветер воет, и дождь крапает в окна… Как-то будет добраться до дому! Когда вихорь разносит пары, то при блеске лунном порою белеет Эльборус, спящий в лоне туч перед грозою.
– Покойной ему ночи, – сказал сосед мой, отставной полковник. – Ты, господин доктор трансцендентальной философии[6], наверно, не будешь встречать так равнодушно бурю, как он в грозном колпаке своем.
– Конечно, нет, любезный дядюшка, – отвечал молодой человек, – потому что я не камень. Кавказу полгоря носить ледяной шлем на гранитном своем черепе, – у него вся адская кухня греет внутренности, и, может статься, природа обложила голову его льдом нарочно для умерения внутренней горячки с землетрясениями; но если бы вздумалось повторить такой опыт надо мною даже и в припадке безумия, – я бы, конечно, отправился в Елисейские поля. Выкупаться в туманах, не только быть промочену дождем, – значит испортить весь курс лечения, а мне, право, не хочется начинать его в третий раз.
Сказав это, молодой человек учтиво поклонился собранию, завернулся в плащ и вышел.
– Вот нынешние молодчики! – сказал полковник, провожая его глазами. – Не понимаю, как можно в двадцать пять лет так нежить себя! Прекрасный малый, а пречудак племянник мой. Порою бегает по целым часам нараспашку или, как угорь, вьется по утренней росе; но когда ему вообразится, что он болен, то чего не накутает на себя для прогулки в самый полдень! Треух на голову, калоши на следки, фланель для поддержания испарений, замшу от сквозного ветра, жилет для приличия, сюртук для красы, шинель для всякого случая сверху, – а сверх шинели – всю природу. Недаром один шутник назвал его египетскою мумиею, набальзамированною романтизмом и испещренною иероглифами странностей, которых не разберет, думаю, ни сам старый черт, не только Шампольон[7] – младший! Простудиться!! Человеку в двадцать пять лет и гренадерских статей простудиться! Я бы заставил его сломать похода два-три зимой, на холодной воде, вприкуску с гнилыми сухарями. Сегодня по пояс в снегу, завтpa пo колено в грязи и потом, промокши до самого сердца, просушиваться под картечным огнем неприятельским. В цепи или в разъезде вместо отдыха; то преследуя побежденных, то утекая разбитый и, в довершение удовольствий, нося более ран на теле, чем петель на мундире!.. Там забыл бы он, за недосугом, и настоящие болезни, не то что воображаемые.