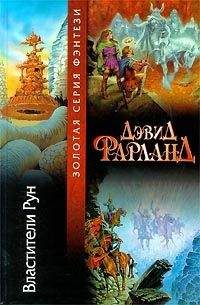- Милости просим, милости просим, Яков Васильич, - говорил Петр Михайлыч, встречая гостя и вводя его в гостиную.
- Это вот-с мой родной брат, капитан армии в отставке, а это дочь моя Анастасия, - прибавил он.
Капитан расшаркался... Настенька слегка привстала; Калинович отдал им вежливый, но холодный поклон.
- Не угодно ли вам водочки выпить? - продолжал Петр Михайлыч, указывая на закуску. - Это вот запеканка, это домашний настой; а тут вот грибки да рыжички; а это вот архангельские селедки, небольшие, но, рекомендую, превкусные.
- Позвольте мне лучше покурить, - проговорил Калинович.
- Сделайте милость! Господин капитан, ваша очередь угощать. Сам я мало курю; а вот у меня великий любитель и мастер по табачной части господин капитан!
Капитан начал было выдувать свою коротенькую трубку.
- Благодарю вас: у меня есть с собой, - возразил Калинович, вынимая папироску из портсигара.
Капитан отложил трубку, но присек огня к труту собственного производства и, подав его на кремне гостю, начал с большим вниманием осматривать портсигар.
- Хорошая вещь; вероятно, кожаная, - проговорил он.
- Her, papier macha, - отвечал Калинович.
Капитан совершенно не понял этого слова, однако не показал того.
- А! Вероятно, английского изобретения! - произнес он глубокомысленно.
- Не знаю, право.
- Английская, - решил капитан.
До всех табачных принадлежностей он был большой охотник и считал себя в этом отношении большим знатоком.
- Где же вы изволили побывать?.. Кого видели? С кем познакомились? начал Петр Михайлыч.
- Я был не у многих, но... и о том сожалею! - отвечал Калинович.
- Это как? - спросил Петр Михайлыч с удивлением.
Настенька посмотрела на молодого человека довольно пристально; капитан тоже взглянул на него.
- Во-первых, городничий ваш, - продолжал Калинович, - меня совсем не пустил к себе и велел ужо вечером прийти в полицию.
- Ха, ха, ха! - засмеялся Петр Михайлыч добродушнейшим смехом. - Этакой смешной ветеран! Он что-нибудь не понял. Что делать?.. Сим-то вот занят больше службой; да и бедность к тому: в нашем городке, не как в других местах, городничий не зажиреет: почти сидит на одном жалованье, да откупщик разве поможет какой-нибудь сотней - другой.
При этих словах на лице Калиновича выразилась презрительная улыбка.
- А семейство тоже большое, - продолжал Петр Михайлыч, ничего этого не заметивший. - Вон двое мальчишек ко мне в училище бегают, так и смотреть жалко: ощипано, оборвано, и на дворянских-то детей не похожи. Супруга, по несчастию, родивши последнего ребенка, не побереглась, видно, и там молоко, что ли, в голову кинулось - теперь не в полном рассудке: говорят, не умывается, не чешется и только, как привидение, ходит по дому и на всех ворчит... ужасно жалкое положение! - заключил Петр Михайлыч печальным голосом.
Но молодой смотритель выслушал все это совершенно равнодушно.
- У этого городничего очень хорошенькая дочка, слывет здесь красавицей, - полунасмешливо заметила ему Настенька.
Калинович опять ничего не отвечал и только взглянул на нее.
- Что ж?.. Действительно хорошенькая! - подхватил Петр Михайлыч. - У кого же еще изволили быть? - прибавил он, обращаясь к Калиновичу.
- Еще я был у почтмейстера, - это чудак какой-то!
- Именно чудак, - подтвердил Петр Михайлыч, - не глупый бы старик, богомольный, а все преставления света боится... Я часто с ним прежде споривал: грех, говорю, искушать судьбы божий, надобно жить честно и праведно, а тут буди его святая воля...
- Он ужасный скупец, - заметила Настенька.
- Почем ты, душа моя, знаешь? - возразил Петр Михайлыч. - А если и действительно скупец, так, по-моему, делает больше всех зла себе, живя в постоянных лишениях.
- Да как же, папенька, только себе делает зло, когда деньги в рост отдает? Ростовщик! А история его с сыном? - перебила Настенька.
- Что ж история его с сыном?.. Кто может отца с детьми судить? Никто, кроме бога! - произнес Петр Михайлыч, и лицо его приняло несколько строгое и недовольное выражение.
Настенька переменила разговор.
- У генеральши вы были? - отнеслась она к Калиновичу.
- Был-с, - отвечал он.
- Это здешний большой свет!
- Кажется.
- А дочь ее видели?
- Не знаю, видел какую-то девицу или даму кривобокую или кривошейку не разберешь.
- Совершенно без боку - ужасно! - подтвердила Настенька, - и вообразите, у них бывают балы, на которых и я имела счастье быть один раз; и она с этакой наружностью и в бальном платье - невозможно видеть равнодушно.
- Господа! Молодые люди! - воскликнул Петр Михайлыч. - Не смейтесь над телесными недостатками; это все равно, что смеяться над больными - грех!
- Мы и не смеемся, - возразил с усмешкою Калинович, - а напротив, она произвела на меня такое тяжелое и грустное впечатление, от которого я до сих пор не могу освободиться.
- Кушать готово! - перебил Петр Михайлыч, увидев, что на стол уже поставлена миска. - А вы и перед обедом водочки не выпьете? - отнесся он к Калиновичу.
- Нет, благодарю, - отвечал тот.
- Как угодно-с! А мы с капитаном выпьем. Ваше высокоблагородие, адмиральский час давно пробил - не прикажете ли?.. Приимите! - говорил старик, наливая свою серебряную рюмку и подавая ее капитану; но только что тот хотел взять, он не дал ему и сам выпил. Капитан улыбнулся... Петр Михайлыч каждодневно делал с ним эту штуку.
- Ну, а уж теперь не обману, - продолжал он, наливая другую рюмку.
- Знаю-с, - отвечал капитан и залпом выпил свою порцию.
Все вышли в залу, где Петр Михайлыч отрекомендовал новому знакомому Палагею Евграфовну. Калинович слегка поклонился ей; экономка сделала ему жеманный книксен.
- Нас, кажется, сегодня хотят угостить потрохами, - говорил Петр Михайлыч, садясь за стол и втягивая в себя запах горячего. - Любите ли вы потроха? - отнесся он к Калиновичу.
- Да, ем, - отвечал тот с несколько насмешливой улыбкой, но, попробовав, начал есть с большим аппетитом. - Это очень хорошо, - проговорил он, - прекрасно приготовлено!
- Художественно-с! - подхватил Петр Михайлыч. - Палагея Евграфовна, честь эта принадлежит вам; кланяемся и благодарим от всей честной компании!
Экономка тупилась, модничала и, по-видимому, отложила свое обыкновение вставать из-за стола. За горячим действительно следовала стерлядь, которой Калинович оказал достодолжное внимание. Соус из рябчиков с приготовленною к нему подливкою он тоже похвалил; но более всего ему понравилась наливка, которой, выпив две рюмки, попросил еще третью, говоря, что это гораздо лучше всяких ликеров.
У Палагеи Евграфовны от удовольствия обе щеки горели ярким румянцем.
После обеда все снова возвратились в гостиную.
- Скажите-ка мне, Яков Васильич, - начал Петр Михайлыч, - что-нибудь о Московском университете. Там, я слышал, нынче прекрасные профессора. Вы какого изволили быть факультета?
- Юрист.
- Прекрасный факультет-с!.. Я сам воспитывался в Московском университете, по словесному факультету, и в мое время весьма справедливо и достойно славился Мерзляков. Человек был с светлой головой. Бывало, начнет разбирать Державина построчно, каждое слово. "Вот такой-то, говорит, стих хорош, а такой-то посредственный; вот бы, говорит, как следовало сказать", да и начнет импровизировать стихами. Мы только слушаем, и если б тогда записывать его импровизации, прелестные бы вышли стихотворения, - говорил Петр Михайлыч. - Любопытно мне знать, - продолжал он, подумав, - вспоминают ли еще теперь господа студенты Мерзлякова, уважают ли его, как следует.
- Очень, - отвечал Калинович, - особенно как профессора.
- Это делает честь молодому поколению: таких людей забывать не следует! - заключил старик и вздохнул. Несколько рюмок наливки, выпитых за столом, сделали его еще разговорчивее и настроили в какое-то приятно-грустное расположение духа. - Вот мне теперь, на старости лет, - снова начал он как бы сам с собою, - очень бы хотелось побывать в Москве; деньгами только никак не могу сбиться, а посмотрел бы на белокаменную, в университет бы сходил... Пустят, я думаю, старого студента хоть на стены посмотреть. Многие товарищи мои теперь известные литераторы, ученые; в студентах я с ними дружен бывал, оспаривал иногда; ну, а теперь, конечно, они далеко ушли, а я все еще пока отставной штатный смотритель; но, так полагаю, что если б я пришел к ним, они бы не пренебрегли мною.
Калинович слушал Петра Михайлыча полувнимательно, но зато очень пристально взглядывал на Настеньку, которая сидела с выражением скуки и досады в лице. Петр Михайлыч по крайней мере в миллионный раз рассказывал при ней о Мерзлякове и о своем желании побывать в Москве. Стараясь, впрочем, скрыть это, она то начинала смотреть в окно, то опускала черные глаза на развернутые перед ней "Отечественные записки" и, надобно сказать, в эти минуты была прехорошенькая.
- Вы что-то такое читаете? - отнесся к ней Калинович.