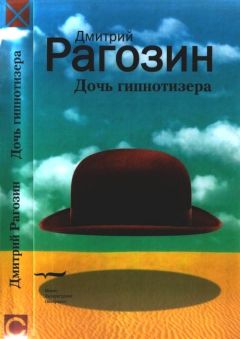Как-то раз, когда Тропинин ушел, позабыв в прихожей большой зонт с хищно загнутой ручкой (он после каждого визита повадился оставлять в их квартире что-либо из своих вещей: часы, расческу, ручку, книгу, носовой платок, шляпу, - неодушевленного представителя, который служил напоминанием о своем хозяине и присматривал за супругами), Роза, стянув с себя платье и набрасывая на плечи халат, с обидой в голосе спросила:
"Почему ты меня не ревнуешь?"
От неожиданности Хромов растерялся и молча смотрел, как она, присев на тахту, снимает колготы.
"Я хочу, чтобы ты ревновал меня ко всем, даже к этому хлыщу - неусыпно!"
"Неусыпно? Что это значит?" - спросил Хромов насмешливо. Он понял, что худшее миновало, что он - свободен...
И вот теперь, когда все прошло, когда ничего не осталось, ни доброго, ни худого, ни прошлого, ни будущего, Тропинин, потерявший напор, но не утративший вкрадчивости, уделил Розе лишь немного жалости, немного сострадания:
"Бедная Роза..."
Однако Хромов, мнительный Хромов услышал в словах Тропинина упрек, как будто нынешнее положение Розы было делом его, Хромова, рук, как будто его эскапады, просочившиеся в прессу, состряпанные ловким газетчиком, угрожали ее здоровью...
"Я ничего от нее не скрываю, - сказал Хромов раздраженно. - Даже тогда, когда скрывать нечего".
Неужто Тропинин привел его наверх только для того, чтобы обвинить в недостойном поведении, как подростка, угадывающего в "недостойном поведении" контур блаженства, к которому не подпускают ревнители истины и поклонники прекрасного? Он давно уже разобрался в этой нехитрой диалектике и не нуждался в запретах, чтобы получать причитающийся восторг от соединения разъединения соединения разъединения. Я сам себе - узник и надзиратель, преступник и следователь. И Тропинину это известно лучше, чем мне. В отличие от меня он прочел все, что я написал.
"Помилуй, - сказал Тропинин, - я тебя не осуждаю. Что ты кипятишься! Делюкс - большая свинья. Но и ты хорош! Избить до полусмерти за газетную статью!"
"До полусмерти?"
"Разве не знаешь? После твоего визита почтенный редактор загремел в больницу - с ушибами и переломами..."
Хромов молчал.
"Не бойся, он не будет жаловаться..."
Хромов почувствовал усталость. Доказывать, что и пальцем не тронул Делюкса, было глупо, и уже недоставало на глупость сил. День выдался на редкость протяженным, хотя и не вспомнить каких-либо заметных, достойных увековечения событий. Так, обычная пыль - пыль столбом. Отпечатки пальцев, мелкие обольщения, одежда, шелуха, детский почерк... Хвост павлина не раскрылся, увы! Надо прожить этот день еще не один раз, чтобы ухватить в нем сюжет, выловить героев. Теперь уже поздно что-либо предпринимать. То, что могло свершиться, свершилось. А что не свершилось - от лукавого.
Тропинин проводил Хромова до ворот. Напрасно он затеял этот разговор. Все равно из Хромова ничего не вытянешь. Непонятно, что он надеялся услышать? Только себя подвел и ему дал повод усомниться. После неловкого прощания он еще постоял некоторое время, прислушиваясь к заунывному морскому гулу, глядя на звезды, висящие на расстоянии вытянутой руки. Наконец медленно побрел обратно в дом.
Чахлый сад, больной, затканный паутиной, был во власти шепотов и вздохов, и, когда Тропинин проходил мимо, шепоты и вздохи потянулись за ним, обвили взволнованно, трепетно, опутали... Погруженный в свои мысли, Тропинин не обратил на них внимания, и они печально отступили, возвращаясь в волосатые пазухи дряхлых, покрытых струпьями сухой листвы деревьев.
В доме на всем лежала печать близкого конца. С уходом Хромова что-то здесь дрогнуло, надтреснуло. Свет потускнел. Как будто он унес с собой то, что до поры до времени не давало этому миру пасть. Еще залы оглашали взрывы смеха, но уже не видно было веселых лиц. Все устали, сникли, не знали, чем себя занять, куда приткнуться.
Прически у дам растрепались. Наряды расползались по швам, свисали лохмотьями. Пуговица, отскочив от модного сюртука, подпрыгивая, катилась под диван. Пирогов с туфелькой в руке ходил от стола к столу в поисках шампанского. Хрумов похрапывал, опустив голову на грудь. Художник по-прежнему ждал, что кто-нибудь попросит его объяснить, что означает его картина.
Девушки бродили неприкаянные, подолгу задерживаясь у зеркал. Под ногами хрустели разбитые рюмки. Мужчины потеряли интерес к женскому полу и искали одиночества. Левин махал руками, доказывая что-то Пескареву. Селявин расхаживал по залам, меланхолично бросая конфетти. По его мнению, вечер не удался.
"Ты сегодня неподражаема!" - мимоходом шепнул Тропинин Моне Арбузовой. Стоящая рядом Соня прыснула, как будто знала про сестру что-то такое, что превращало невинный комплимент в грубую непристойность. "Я хотел сказать неотразима!" - поправился Тропинин, но теперь уже Моня зарделась, кусая губы.
"Не видел Хромова?" - спросил Блок, на лоснящемся лице которого к ночи вспухли прыщи.
"Он ушел, а что?"
"Ничего", - Блок пожал плечами.
Тропинин поднялся в свой кабинет, не заботясь об участи гостей, прикрыл дверь, но свет зажигать не стал. Уверенно прошел в темноте к столу, нащупал рукой спинку стула, сел. Вероятно, Хромов уже подходит к гостинице... Тропинин никогда там не был, но ему не составило труда вообразить желто-черные плитки пола в холле, низкие кожаные кресла, люстру в виде большого деревянного обруча, скучающего за высокой конторкой портье, ячейки с ключами. Вот, перекинувшись с портье несколькими словами, Хромов поднимается в свой номер, идет по коридору, открывает дверь. Роза, rosa mystica... Тропинин с трудом мог представить ее. Какая она сейчас? О чем они разговаривают, когда вдвоем?
Сидя в темноте, он поглаживал кончиками пальцев круглые клавиши пишущей машинки.
Вдруг, встрепенувшись, точным движением заправил бумагу и с ходу вслепую заплясал пальцами:
"Как часто, открыв книгу излюбленного писателя, с ревнивым недоверием вступая в ее хитросплетения, в мечтах мы невольно уже устремляемся к следующей книге, которой суждено выйти из-под неусыпно плодовитого пера. Быть может, эта новая книга существует в голове автора еще только как смутный, неверный замысел, слабый зачаток, разбухшее семя, уродливый фетус, но мы уже ждем, надеемся, спешим предугадать сюжет, прозреть героев, предвкушаем петлистые полеты фраз, быстрые росчерки безудержного воображения. Запасемся терпением. Пройдет год, два года, прежде чем на прилавках появится свежий, пованивающий типографской краской том с заветным именем на глянцевой обложке. Вот она, долгожданная книга, занимавшая нас, читателей, еще до своего выхода не меньше, чем самовлюбленно издыхавшего над ней автора... И что? А ничего. Наши мечты, наши надежды, увы, им было не суждено сбыться. Провал, провал..."
10
Хозяин гостиницы "Невод", грузный человек с обмякшим, обвисшим лицом, потухшими глазами и неопрятной покатой лысиной, говорил всегда тихо, приглушенно, почти шепотом, точно боялся нарушить чей-то покой. По всему было видно, что в гостинице он чувствует себя не на своем месте, но не может место покинуть, поскольку не нашлось еще того, кто захотел бы его заменить, а оставлять место пустым не позволяет ему совесть, отягощенная былыми проступками и прегрешениями.
Гостиницу построил его отец в виде компактного лабиринта, в котором каждый номер можно было бы рассматривать как очередное препятствие в продвижении к цели. Но в чем цель этой путаницы, почему после номера девять с ванной, телефоном и персидским ковром идет номер триста двенадцать, больше похожий на камеру временного задержания, почему первого номера нет вообще, отец унес с собой в могилу. Причина того, что он не захотел посвящать сына в тайну своего рукоделия, заключалась в том, что при жизни отца сын не выказывал ни малейшего желания быть в тайну посвященным. Пока отец строил, сын вел распутную жизнь. Объездил матросом полмира (отец презирал путешественников), участвовал в сомнительных предприятиях (отец всегда действовал один, на свой страх и риск), обесчестил букет наивных поселянок (отец хранил верность своей рано умершей супруге), играл на ударных в рок-группе "Маки-Муки" (отец больше всего любил тишину, осенью, когда слышно, как, щелкая, трескаются каштаны), перепробовал все виды "травок" и "колес" (отец!..), общался с кем попало, проходил по подозрению в нескольких удивительно жестоких убийствах (вина его не была доказана), но главное - его совершенно не интересовала тайна, сохранению и упрятыванию которой отец отдал последние годы своей жизни. Только получив в свои руки гостиницу, он понял, как много упустил и уже никогда не наверстает. Он даже не стал пытаться понять что-либо в расположении комнат, в направлении коридоров. Выдавал редким постояльцам маленькие медные ключики и считал, что на этом его миссия заканчивается. То, что это была миссия, он не сомневался. С тех пор как старая экономка Амалия, доставшаяся ему от отца вместе со зданием гостиницы, сошла со сцены, все заботы по уборке легли на его невзрачную дочь Фиру. Нет, Амалия тоже не была посвящена в тайну, но с самого основания гостиницы, будучи особой приближенной, чутьем ориентировалась в пыльных закоулках и, не умея на словах рассказать или вычертить на бумаге план, умела довести постояльца до предназначенного ему номера. Она была незаменима, и это пугало хозяина больше, чем ее презрительный взгляд. Он знал, что Амалия его ненавидит настолько, что есть все основания опасаться за свою жизнь, но также знал, что без нее гостиница придет в полную негодность, а потому вынужден был терпеть ее почти невидимое присутствие. Она носила черное, волочащееся по полу платье, похожее на выкрашенную чернилами рогожу, ее пальцы сверкали кольцами, она курила пахучие яванские сигареты, и этот терпкий сладкий запах свидетельствовал о ее присутствии явственнее, чем прячущаяся в тень сгорбленная фигура. Но однажды Амалия, не дав никаких объяснений, ушла из гостиницы, волоча за короткую уздечку большой желтый чемодан на колесиках. Худшие опасения новоиспеченного портье подтвердились. Оставшаяся на его попечении гостиница, несмотря на самоотверженную помощь дочери, приходила в упадок. Приезжие, наученные дурными слухами, обходили полное прорех пристанище стороной, а тот, кто все же рискнул, польстившись на дешевизну, остановиться в одном из номеров, редко задерживался дольше двух-трех дней, достаточных для того, чтобы распознать под обивкой и драпировкой затаившуюся острастку. Хромов не разделял предубеждений. Конечно, и он обратил внимание на некоторые несообразности в строении, отсутствие ясного плана, подозрительную картонность редких постояльцев, но все это, на его вкус, скорее свидетельствовало в пользу гостиницы. Роза тем более была довольна. Гостиница целиком отвечала ее нынешним, нездоровым запросам. "Здесь мне безмерно и беспрекословно", говорила она. И все же, на исходе дня возвращаясь в гостиницу, Хромов испытывал каждый раз неуверенность, попадет ли он в свой номер, к своей многомудрой жене, и хотя ему каждый раз удавалось, поплутав по темным коридорам, попасть в свой номер, чувство неуверенности сохранялось, как сладкий запах яванских сигарет в плюшевых пахах диванов. Был ли это его номер? Была ли эта женщина, восстающая из сонного тумана, его женой? И наконец, он ли, писатель Хромов, - тот, кто вошел в номер и сел в кресло, глядя на свет, идущий сквозь приоткрытую дверь спальни? Плохой каламбур ближе к истине: пока она спала, он спал с лица.