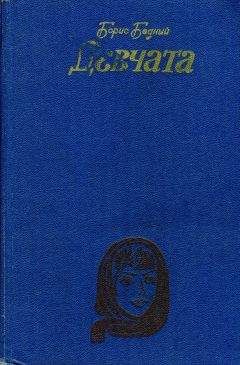у того якорь, у того чайка вырезана из жести, а у того и парус, тоже железный, из нержавейки... Живут на Арктической преимущественно заслуженные полярники, люди Севера, которых после всех жизненных бурь потянуло под щедрое южное солнце, живут - не торопятся, отогревают в виноградной тени свои продутые всеми ветрами души, свои застуженные кости, забивают по вечерам "козла" да учатся после вечных льдов и завывания бури разводить нежные, ранее, может быть, и не виданные ими солнцелюбивые цветы. Собираясь по праздникам, вспоминают труднейшие рейсы, где их суда затирало льдами, сплющивало иногда в лепешки, но не сплющило их самих. Какой уж раз друг-механик подбивал Ягнича: давай, мол, и ты сюда, найдем несколько соток, пропишем на пашей Арктической, соорудим на двоих с тобой давильню и будем перемалывать шаслу. Пока еще не искусил Ягнича этой давильней, у орионца свое на уме. Двадцать четыре рейса провел на "Орионе", так разве же па двадцать пятый духу не хватит?
Все ближе порт. Где-то там орионцев ждут на причалах жены, дети, матери... Курсантов нареченные ждут. С букетами цветов будут часами стоять, выглядывая, когда он появится из-за горизонта, этот их высокий, белоснежный красавец! Лучше, если бы он пришел при полном солнце, в ясный день, когда наполненные ветром паруса аж сияют,- тогда людям есть на что посмотреть и фотографам из кинохроники нашлась бы работа! Однако на сей раз после шторма не могли дать нужных узлов, поэтому пришли поздней ночью, когда на посветлевшем небе уже и утренняя заря занялась, и повеял свежий заревой ветерок.
Но и в этот поздний час у причалов их ждали. Даже Ягнича вышел встречать друг-механик, не забыл, не проспал.
Сидит Ягнич под шатром виноградным, забивает с другом "козла". Играют молча, сосредоточенно, серьезно.
- Если проиграешь, Гурьевич,- говорит после тридцатой партии друг-механик,- быть тебе на Арктической.
Давильня тебя давно ждет.
Не отзывается Ягнич и на это: свои, не для разглаше-5 ния, мысли ворочаются в голове. Была у него тут одна:
знакомая (правда, зовут се не тетя Мотя, а тетя Клава, ила просто Клава-морячка), и вот не застал, доконали ее дочьалкоголичка с зятем. Вдова погибшего во время войны моряка (служил старшиной на сторожевом катере) и сама с незаурядным стажем труженица флота, Клава малопомалу, но с каждым годом все более видное место занимала в мире Ягничевых мыслей. Ходил дважды с ней в рейс:
один раз по Средиземному, а во второй - вокруг берегов Африки - на камбузе работала Клава-морячка. Вот она уж для Ягнича черных груш но жалела! Выйдет, бывало, Ягнич из мастерской, наработавшись как следует,- а выходит он, не глядя на часы, всегда вовремя, секунда в секунду, курсанты смеются: "По Ягничу, как по Канту, можем время сверять". Выйдет - и прямо к камбузу.
Когда перебросится с ней словом, а когда и нет, потому что Клава обычно занята своими делами, в таком случае Ягнич сядет на стульчике у входа в камбуз и смотрит, как она работает. Случалось, и долго так просиживал. Конечно, толки пошли, шуточки. Хотя ничего там между ними такого не было, на что иногда намекают, глупости разные городят, чтобы позабавиться. Чисто товарищеские чувства манили их друг к другу, чувства взаимной поддержки, потребность душевной опоры, которая нередко объединяет одиноких людей на склоне лет крепче иных всяких уз, прочнее, пожалуй, чем иногда в молодости.
И вот нету Клавы-морячкп. Еще одна добрая душа отошла. Как говорится, снаряды ложатся все ближе и ближе...
Судно стало на ремонт. Пока его на заводском причале раздевали донага и выворачивали наизнанку, Ягнича тоже не оставили в покое - таскали по медкомиссиям. Одни находили одно, а другие - другое, и все это заварилось изза той несчастной, обещанной капитаном путевки: по иным неразумным рассуждениям получалось, будто это он, Ягнич, сам ее добивался, чуть ли не обманом хотел заполучить. Ну а уж за путевкой сейчас же прицепилось другое - годен ли вообще старик к трудовой деятельности. Давайтека, мол, его хорошенько прокомиссуем. Исписали горы бумаг, описали печень и селезенку; какие-то девки здоровые, как кобылицы, словно развлекались, заставляли Ягнича закрывать и раскрывать глаза, дышать, приседать, вставать... Били молотками по ногам! В "нервном" кабинете он даже не выдержал, взбунтовался - думал, и вправду насмехаются.
Другие девки даже в зубы ему поочередно заглядывали, причмокивали и снова очень внимательно заглядывали, как цыган старой кобыле па ярмарке. Удивленно переглядывались - но хотели верить, что зубы у него целехоньки все до единого, и все до единого не чьи-нибудь, а свои.
- Вот это гены,- сказала одна из комиссии и села снова писать.
Сколько бумаг, сколько мороки - и за что? За еще одну бумажечку, за ту льготную, которую он ни у кого не испрашивал и которая ему решительно не нужна. Не клянчу же я ее у вас, отдайте ее кому угодно, хотя бы своей теще, а я не из тех, которые путевки выплакивают... Не могут поверить, чтобы человек от такого добра отказывался.
И твоя льготная уже никак не может от тебя отцепиться,- правда, при всем этом не торопится и в руки твои попасть.
Всей этой волокитой замордовали так, что в конце концов терпение самого терпеливого на флоте иссякло:
- Да катитесь вы со своей льготной знаете куда?
Не уточняя, куда именно надо было им катиться, строгие члены комиссии восприняли вспышку старика как его каприз.
А командование "Ориона" тем временем помалкивало.
Ягнич наведывался, конечно, туда: стоял там такой грохот, что хоть уши затыкай. Клепают, стучат, там режут металл, там варят, шипит электросварка, все разворочено, много рабочих незнакомых, хлопцев из экипажа редко и увидишь, да и эти спешат, отмахиваются, можно подумать, что всем ты тут мешаешь, для всех вроде бы уже лишний.
Нет, лучше сюда не ходить.
Мог бы поехать проведать Кураевку, тянуло туда, и это свое намерение откладывал со дня на день, решил подождать, пока не узнает как следует, когда же в очередной рейс. А капитан либо сам еще ничего не знает, либо хитрит, уклоняется от определенного ответа, и эта его уклончивость более всего другого обижала Ягнича. В общем, не то сейчас время, чтобы куда-то уезжать, пускай уж сперва выяснится все с рейсом, тогда можно будет навестить и Кураевку, явиться к ней, как говорят, "с визитом вежливости". (Конечно, это лишь в шутку так думает старый Ягнич, ясно же, что собирается он навестить свою Кураевку не только из вежливости...)
Итак, пока суд да дело, бросил "якорь" на Арктической.
Хозяин посоветовал ему не бегать каждый день на "Орион", не надоедать, не мозолить глаза людям, пока идет ремонт.
- Никуда он от тебя не убежит, твой "Орион"! Где им найти еще такого двужильного коня, как ты? У тебя послеоперационный отпуск, вот и сиди тут да любуйся природой.
А возникнет потребность - "Орион" знак подаст, там известны твои координаты.
Такие рассуждения казались Ягничу вполне логичными. В самом деле, зачем там слоняться в разгар ремонта?
Ведь заводские свое дело знают лучше, чем ты. И сделают все без сучка, без задоринки... Вот и пребывает в полном безделии Ягнич на вынужденном курорте, на этой Арктической, укрывшись от жары под виноградным шатром. Когда "козел", когда газета, вечером телевизор на две программы: выбирай, какую хочешь. Вроде бы рай, но почему-то не чувствует Ягнич полного удовольствия от этого пенсионерского рая. Правда, друг его не из тех пенсионеров, от которых нет отбоя ни врачам, ни собесам, механик сам предложил портовому начальству свои услуги, зачислили его теперь там наставником на какие-то курсы, и пусть вполсилы, по все же работает человек, не чувствует себя выброшенным за борт, бездельником не по своей воле.
В один из дней резал Ягнич хлеб ножом на столе, и вдруг нож сломался.
- Сто лет тебе жить, если еще ножи в руках ломаются,- весело сказал на это хозяин.
Ягнич, хмурясь, отложил сломанный нож как-то нервно, с досадой. Недобрая какая-то примета - так он истолковал это для себя. Почувствовав неясную тревогу, Ягнич тут же напялил на голову кепочку и направился на "Орион", не сказавшись даже другу, куда идет.
На судне в этот раз было свободнее, не так шумно, не стучало и не шипело. Ягнич направился прямо в свою мастерскую. Хоть одним глазком глянуть, что там и как.
Ведь это же его гнездо, его дом: как для чабана кошара, так мастерская для него.
Мастерская была почему-то открыта, и только сунулся Ягнич в дверь, навстречу - харя величиной с решето! Что за квартирант, откуда? Осклабился, похихикивает, негодяй! Панибратски так похихикивает! Да еще и философствует:
- Видишь ли, Ягнич, ничто не вечно под луной: тебе отставка, ну а мне чин. Кому булава в руки, а кому костыль!..
Кажется, где-то встречались - в порту, должно, возле кассы. Только чем же это от него все время так разит!
С появлением этого типа самый дух мастерской тотчас же изменился. Раньше царил здесь особый, характерный лишь для этого помещения запах, который для Ягнича был наисладчайшим - густой, спрессованный дух смолы, канатов, воска, вываренной в масле парусины... Может, в него тонко вплетался еще запашок лавровых листьев, которые с давних пор лежат, пересохшие, в углу... Из всего этого, приправленного соленым ветерком моря, и соткался тот несравненного запаха воздух, которым долгие годы дышал Ягнич и для которого он был и дурманят:, и сладостно живителен.