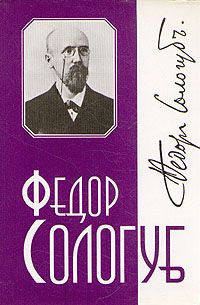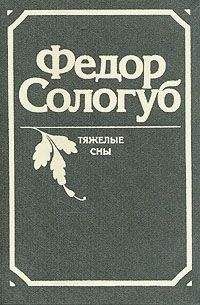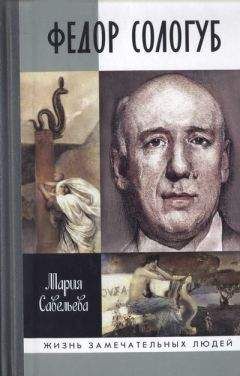Барыня увидела в Митином дневнике единицу и сделала Мите выговор. Митя поцеловал барынину руку, — так заведено.
В комнатах было нарядно и красиво. Мягкие ковры делали шаги неслышными, занавесы и портьеры висели тяжелыми и строгими складками, мебель стояла удобная, бронза — дорогая, картины в золоченых рамах. Прежде Мите нравилось здесь, — он входил сюда с уважением и робостью, когда его звали, или когда господ не было дома и можно было любоваться всем этим.
Сегодня красивость комнат в первый раз возмутила Митю. Он подумал: «Раечка, бедная, поди, ни разу в таких хоромах не поиграла».
«Да и настоящая ли здесь красота?» — подумал Митя. И пока Урутина, долго и скучно, объясняла ему, как стыдно лениться и как он должен дорожить тем, что о нем заботится сама барыня, — Митя думал, что где-то есть чертоги, — может быть, у одного только царя, — и там настоящая красота, и неисчерпаемая роскошь, и пахнет, как у царя Соломона, неведомыми благовониями, смирною и ливаном. В таких бы чертогах поиграть Раечке.
Когда уже Митя хотел уходить, барыня сказала:
— Дарья мне говорила, что ты какую-то девочку видел, как она упала из окна. Расскажи.
Митя, как всегда, испугался барынина повелительного и строгого тона и тотчас же принялся рассказывать. От застенчивости он пожимал плечами, но рассказывал так же подробно и с жестами и мало-помалу воодушевлялся. И опять он взвизгнул, как Раечка, и при этом присел и побледнел. Все это забавило и растрогало барыню и барчат.
— Как он мило рассказывает! — воскликнула Лидия, подражая одной знакомой взрослой барышне и так же взмахивая руками. — Бедная девочка! И она совсем, до смерти ушиблась?
— До смерти, — сказал Митя.
Барыня дала ему конфетку, сладкую и липкую, в плоеной бумажке. Митя любил сладкое и обрадовался.
III
Митя сидел в своей каморке у окна, за деревянным некрашеным столом с расколовшеюся доскою, спиною к матери, которая угрюмо вязала чулок. Наклоняя к учебнику бледное лицо с трепетными губами и большим носом, который придавал ему как бы насмешливое выражение, Митя с усилием заставлял себя запоминать заданное. Но грустно и жалостно вспоминалась Раечка. Глупая у нее мать, — не доглядела!
Голова болела, — и Митя думал, что это от кухонного чада и от прелого запаха, который был особенно заметен и обиден после благоухания барских покоев…
Мите вдруг захотелось представить себе, какого роста Раечка: пожалуй, она достала бы головой до его пояса.
Все мешали читать: пришла Дарья и говорила с Аксиньей о своем милом… Но надо учиться, чтобы опять не схватить единицы… Хлопнула выходная дверь, Дарья убежала.
— О, чертова кукла! — крикнула Аксинья.
Митя не слышал, из-за чего они поссорились; он посмотрел на мать; Аксинья вязала чулок и сердито сжимала губы.
«Чертова кукла! — повторил Митя про себя, улыбаясь. — Должно быть, — подумал он, — это большая кукла, как человек, и ею по ночам играют черти. А днем? Ну днем она живет, как все. Может быть, и не знает, кто придет за нею. Поглядеть бы, — думал Митя, — как черт играет Дарьей. Может быть, он делает ее кошкой, выносит на крышу и заставляет бегать и мяукать…»
Эти мечты смешили и развлекали Митю. Он не заметил, как и мать ушла. Вдруг среди тишины скрипнула дверь из коридора.
Митя оглянулся. На пороге стоял Отя с выражением напряженного любопытства в выпуклых глазах. Он на цыпочках, смешно махая руками, подошел к Мите и спросил:
— Один?
— Один, — сказал Митя.
Отя вышел тихонько и вернулся через минуту вместе с Лидией. Барышня улыбалась и казалась встревоженною.
— Послушай, — зашептал Отя, — расскажи нам еще про ту девочку, про падучую.
Лидия захихикала от смешного слова, — она знала, что Отя придумал его нарочно, — и от ожидания любопытного рассказа.
— Хорошо, — сказал Митя и встал.
Лидия села на его стул, сложила руки на коленях и не отрываясь смотрела на Митю. Отя поместился на зеленом сундучке, поколачивал кулаками по коленям и делал сестре гримасы. Митя повторял рассказ, как и прежде, — а в конце, вспомнив, как взвыла мать над Раечкой, засмеялся. Барышня при этом вздрогнула.
— Какой ты бесчувственный, — с неудовольствием сказала она, — подумай, ведь девочке больно было! А ты вдруг смеешься!
— Да, — наставительно сказал Отя, — ты, брат, не отличаешься тонкими чувствами. Над падучими девочками не надо смеяться.
Митя вспомнил опять, как раскинулись Раечкины руки, и хрустнул ее череп, и кровь тонкой струйкой медленно поползла в серый сор. Митя заплакал. Дети поглядели на него, переглянулись, захихикали. Им стало неловко. Они не знали, что говорить и как уйти. Выручила барыня.
Она заметила, что детей нет в комнатах, и отправилась на поиски.
Она услышала голоса, постояла в темном коридоре, потом распахнула дверь и появилась на пороге. Выпрямившись, закинув голову и высоко подымая густые черные брови, от которых теперь было так близко до гладко причесанных волос, что это придавало ей глупый и смешной вид, постояла она с минуту, — и под ее сверкающими взорами все трое застыли на местах.
Отя и Лидия пугливо смотрели на нее, однообразно держали руки на коленях и натянуто улыбались. Митя исподлобья глядел на барыню, а крупные светлые слезы медленно катились по худощавым щекам и падали на полинялую домашнюю блузу.
— Дети, идите в комнаты, — сказала наконец барыня, — вам здесь нечего делать. Что за место, что за компания!
Дети поднялись. Пропустив их вперед, барыня пошла за ними.
Митя слышал удаляющиеся звуки ее негодующего голоса.
«Неприличное место!» — обидчиво подумал он и оглянул голые стены каморки, дощатую перегородку, убогие вещи, сундуки, — большой буро-красный, с жестяною оковою, и маленький зеленый, — окно, из которого видны крыши, трубы и блеклое небо. Все бедно, грубо и жалко.
«Подкралась как! — подумал Митя про барыню, — от нее не утаишься, точно ведьма!»
Со двора, из открытого окна чьей-то квартиры доносилось томительно-нежное пение флейты, — как Раечкин плач.
IV
Митя разделся и улегся на своей постели, которую мать расстилала ему на большом сундуке; сама же она спала на кровати, втиснутой в угол между перегородкой и дверью в коридоре и закрытой ситцевой пестрой занавеской. Теперь Аксинья сидела в кухне, — еще будет ужин барыниным гостям. Из-за дощатой перегородки на потолке и на полу виднелись световые полоски, а здесь, у Мити, тьма страшила. Митя закутал голову в одеяло.
Прежде любил он, лежа, помечтать о невозможном: о подвигах, о славе и о чем-нибудь нежном и тихом. Сегодня мечты стремились к Раечке. Что теперь с нею? Страшно впотьмах представлять ее мертвою. Страшно думать о том, что Раечку будут отпевать, зажгут желтые свечки, распустят в воздухе синий ладан, — и потом ее зароют, — но не мог Митя не думать об этом.
«Там ей будет лучше, — вспомнил он материны слова. — Как лучше?» — с недоумением подумал он, и вдруг радостно догадался: «Да, она воскреснет и будет с ангелами».
Все отчетливее становился в Митином воображении Раечкин образ. Как будто кто-то дорисовывал его медленно и тщательно тусклым свинцовым карандашом, — и каждая новая черта внушала Мите смешанные чувства страха, восхищения, жалости.
В кухне Аксинья точила нож о край плиты. Неприятный лязг мешал заснуть. Митя высвободил голову из-под одеяла и тихонько позвал:
— Мама, а мама!
— Ну, чего тебе? — откликнулась мать.
— А Раечкина мать не помрет? — спросил Митя.
— Кака така мать?
— А вот, что девочка-то расшиблась.
— Ну? — отозвалась мать суровым и досадливым голосом.
— Так вот ее мать, говорю, не помрет?
— С чего ей помирать-то?
— А с горя по Раечке, — тихо сказал Митя, и слезы покатились из глаз, моча ему щеки и подушку.
— Спи, дурак, спи, когда лег, — с досадою сказала Аксинья. — Все бы с такого горя помирали, так и людей бы в Рассеи не осталось.
— Так что ж такое? — отчаянным голосом спросил Митя, всхлипывая.
— А то, что спи, — без тебя тошно.
Митя замолчал. Точно, слезы утомили его, — он начал дремать. В утомленном ухе мучительно тонко запела нежная свирель, потом загудел тихий колокол, все закружилось и пропало. Только высоко, в окне, ясная, веселая, смеялась Раечка.
«Она воскресла!» — радостно подумал Митя, — и что-то воскресно-светлое лепетала ему Раечка.
V
Митя участвовал в школьном хоре, который пел в одной из приходских церквей. В хоре Митей дорожили за верный слух и за отличный голос, — чистый, сильный альт. Он и сам любил петь. Особенно ему нравились свадьбы и отпевания. Венчальные песни веселили, надгробные — возбуждали приятно-печальные настроения.
Утром в воскресенье Митя пришел к обедне. Сбирались прихожане. Колокольный звон торжественно плыл в тихом осеннем воздухе. Мальчики-певчие толкались, шумели и шалили в церковной ограде и на паперти. Беленький, маленький Душицын свежим и нежным голосом говорил ругательные слова, сохраняя на лице невинное и кроткое выражение. Пришеп и регент, учитель Галой, коротенький, чахленький, с неподвижным румянцем кирпичного цвета на щеках и с длинною жиденькою бородкою, которая казалась приклеенною. Появился он внезапно, словно вырос на улице и вынырнул из ворот в ограде. Мальчики побежали к паперти, кланяясь учителю, кто с преувеличенною почтительностью, кто с небрежным и недовольным видом. Митя снял шапку неловко, точно сомневался, надо ли это делать, помазал ею себя по щеке, посмотрел на учителя, щурясь, как от солнца, опять надел шапку и слегка сдвинул ее на затылок. Галой остановился на паперти. Митя подошел к нему.