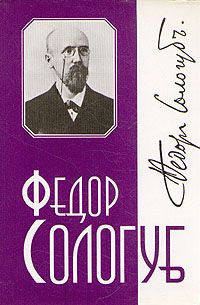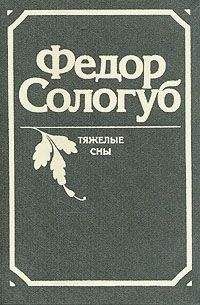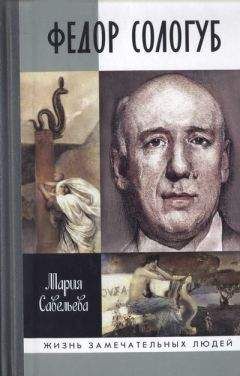Вдруг одна из девочек, слабенькая и хрупкая на взгляд, высоко вскинула руки, всплеснула маленькими ладошками и пронзительно закричала, без слов. Ее лицо покраснело и перекосилось, из прищурившихся глаз брызнули мелкие и частые слезинки, — и разлились по всему крошечному лицу. Не переводя голоса, протягивая руки и шатаясь, она метнулась в сторону, гонимая ужасом, наткнулась на Митю руками, отскочила и побежала дальше, крича и плача.
Запищал кто-то, робко и плаксиво. Мальчики, только что игравшие, стали рядом с Митей и смотрели на упавшую девочку с тупым и бессмысленным любопытством. В одном из окон показалась толстая женщина в белом переднике и заговорила что-то, взволнованно и быстро. И из других окон стали выглядывать на двор. Неспешно и равнодушно приблизился дворник, белолицый парень в красной вязаной куртке, посмотрел на девочку крупными и пустыми глазами и, опершись о метлу руками, стал глазеть по окнам. Когда он, постепенно подымая голову, дошел до верхних окон, какие-то неясные чувства тускло отразились на его пухлом лице.
Вокруг девочки собирались, зашумели. Мастеровой в опорках, с ремешком на лбу замахал руками и крикнул:
— Городового!
— Ах, грех какой! — заахала маленькая старушонка, выглядывая из-за его плеча.
— Мать не досмотрела, — сказала сердитая баба в сером платке.
Подошел старший дворник, в черном пиджаке, чернобородый, с побледневшим от неожиданности лицом.
— Беги, беги, — говорил он подручному.
Белолицый парень медленно пошел к воротам.
— В участок пошли! — зашептал кто-то сзади Мити.
— Чего уж, окапутилась! — ответил положительный мужской голос.
Митя удивился, как чему-то невозможному, что девочка лежит уже мертвая.
Вдруг откуда-то сверху донесся вой, растущий и приближающийся. С угловой лестницы, дико вопя, вынеслась, неистовым порывом, растрепанная и побледневшая женщина; она протягивала дрожащие руки и стремительно упала на девочку.
— Раечка, Раечка! — закричала она и трясущимися губами принялась дуть на девочкины ручонки. Потом, вздрогнув от их холода, она схватила Раечку за плечики и приподняла ее. Раечкина голова запрокинулась назад. Мать отчаянно взвыла и покраснела, как та маленькая девочка, и так же облилась слезами.
— Мать-то — окарачь! — послышался за Митею сокрушенный старушечий шепот.
Мостовая задрожала, — с улицы донесся грохот и лязг от железа. Мите стало страшно. Он бросился бежать.
II
Тяжело дыша от долгого бега, Митя приостановился на площадке, на узкой и грязной лестнице в третьем этаже. Из отворенной двери кухонный чад обдал его. Он слышал сердитый материн голос. Робко вошел Митя в кухню, где пахло маслом, луком, дымом, — и остановился у дверей, охваченный привычными ощущениями, — неловкостью и бесприютностью в этой квартире, которая и чужая ему, и все же служит его домом.
Его мать, кухарка Аксинья, растрепанная, жаркая, с засученными рукавами на толстых красных руках, в затасканном и прожженном переднике, суетилась у плиты, поджаривая что-то, шипевшее и брызгавшее маслом на сковороде. Пламенные язычки, красные, как струйки Раечкиной крови, мелькали за неплотно затворенною печною дверцею. Сквозило, — дверь и окно стояли настежь. Аксинья бранила барыню, и свою жизнь, и жаркое, и дрова.
Митя чувствовал в себе какое-то неясное, ответное раздражение: он знал, что свою досаду мать сорвет на нем.
— Ну, чего торчишь на пороге! — закричала Аксинья, повертывая к Мите красное озлобленное лицо со слезящимися глазами, над которыми метались реденькими космами седеющие волосы. — Принесла нелегкая, без тебя тошно!
Митя прошел за перегородку, в каморку при кухне, где они с матерью жили. Из кухни, сквозь шипящие звуки на сковороде и в печке, слышалось сердитое Аксиньино ворчанье.
— Жаришься весь век свой у печки как окаянная, — прости, Господи, мое великое согрешение! — а сын вырастет, о матери и не подумает. Сыновним-то хлебом не разъешься. Пока мать поит-кормит, пота мать и нужна!
Митя сердито нахмурился, уселся в углу на зеленый сундучок, пригорюнился, и погрузился в печальные мысли и воспоминания. Раечка вспоминалась ему — на камнях с разбитой головою…
Прошло несколько минут. Аксинья заглянула в каморку, приоткрыв дверь.
— Митя, поди-ка сюда! — с неловкостью в голосе, полушепотом позвала она.
Уже она смотрела на сына ласково, и это не шло к ее грубому, некрасивому лицу. Митя подошел.
— На, съешь пока! — сказала Аксинья, сунула ему сладкий блин, только что испеченный и еще горячий, и опять скрылась в кухню.
Внезапное сердечное размягчение вызвало на Митины глаза легкие слезинки. Когда он ел блин, скулы его двигались неловко, с какою-то особою болью от подступающего к горлу плача. Острая жалость к матери, вызванная жалобами ее, и ее неуклюжею нежностью, сплелась тончайшими нитями с жалостью к Раечке…
Аксинья любила сына озлобленною любовью, которая так обычна у бедных людей и которая терзает обе стороны. Скудная, необеспеченная жизнь запугивала ее и подсказывала, что вот Митька вырастет, запьянствует, сам пропадет и ее на старости бросит. Но как отвратить беду, что делать с Митькой, чтобы он вышел человеком, она не знала и только смутно чувствовала, что в кухне трудно возрастать. Она угрюмо хмурилась, всего боялась, часто вздыхала и охала.
Митя дожевал блин и подошел к окну, вытирая пальцы об испод куртки. Из окна все казалось бледным и скучным. Виднелись кухни, где стряпали, крыши, дым из труб и блеклое небо. Митя лег на подоконник и смотрел на мощеный булыжником двор. Раечка представилась ему, и то высокое окно, — он подумал:
«Этак и каждый может упасть».
Первый раз, полусознательно, но уже со страхом, отнес он к себе мысль о смерти. Это была невозможная и ужасная мысль, — еще страшнее, чем думать, что Раечка упала и умерла, так просто, как разбивается ламповое стекло, если его бросить на камни.
Митя, дрожа, соскочил с подоконника. Он чувствовал боль в висках и в темени. Как-то нелепо замахал он руками и пошел в кухню. Там Аксинья стояла у плиты, подперши рукою щеку, и уныло глядела на огонь. Митя сказал:
— Мама, а что я видел-то на проходном дворе!
— Ну? — сурово спросила мать, не поворачивая к нему головы.
— Как девчонка шмякнулась с четвертого этажа и голову разбила.
— Да что ты! — вскрикнула Аксинья.
От испуганного ее голоса Мите стало и страшно, и смешно. Ухмыляясь, иногда хихикая, он подробно рассказал, как Раечка упала. Аксинья ахала, испуганно и жалостливо, и смотрела на сына неподвижными, округлившимися глазами. Когда Митя рассказывал, как Раечка вскрикнула, он взвизгнул, как она, тонким голосом, побледнел и слегка присел.
— Таких бы матерей… — со злобою начала Аксинья, не кончила и всхлипнула. — Андельчик! — жалостно сказала она, вытирая слезы грязным передником, — Бог прибрал, ей там лучше будет.
— Как она хряснулась! — задумчиво сказал Митя.
Мать опустила передник. Ее смоченное слезами и неподвижное лицо поразило мальчика. Он заплакал. Крупные слезы быстро текли по его бледным щекам. Но ему стыдно стало плакать. Он отвернулся и понурившись побрел в свою каморку, сел в угол на зеленый сундучок и долго и горько плакал, закрываясь руками.
Вечерело, и обычным порядком все шло, как всегда. В Митиных настроениях была смута. Мелочи лезли в глаза и больно царапали душу, раньше почти не замечавшую их. Хотелось еще рассказывать о Раечке, еще разжалобить кого-то. Когда пришла в кухню горничная Дарья, франтоватая девица с лукавым лицом и гладко причесанными волосами, он и ей рассказал подробно. Но с тупым равнодушием слушала его Дарья, приглаживая перед Аксиньиным зеркальцем, висевшим в каморке на стене, свои волосы тараканьего цвета, от которых пахло помадой.
— Тебе разве не жалко? — спросил Митя.
— А что она мне, родная, что ли? — с глупым смехом ответила Дарья. — Жалельщик выискался, поди-ка!
— Чего жалеть! — сказала мать, — всех бы вас туда, и слава Богу. Вот ты, что вырастешь? Пьяный мастеровщина будешь!
«А если бы Раечка выросла? — подумал Митя. — Была бы горничная, как Дарья, помадилась бы и косила бы хитрые глаза…»
Митя пошел к барыне, дневник за неделю показать. Это барыня считала добрым делом, — заботиться о мальчишке, кухаркином сыне.
Приятные, но странные, как ладан, запахи в комнатах оторвали Митю от мыслей о Раечке. Он боязливо подошел к барыне, которая сидела в гостиной на диване и раскладывала пасьянс.
Урутина была полная, белая от притираний и пудры. Барынины дети, — сын гимназист, Отя, — Иосиф, — и дочь Лидия, вертелись тут же, и Отя делал Мите гримасы. У Оти выпуклые глаза и красное лицо. Лидия похожа на него, немного постарше. Волосы на лбу подстрижены. Аксинья и Дарья в своих разговорах называют это челкой.