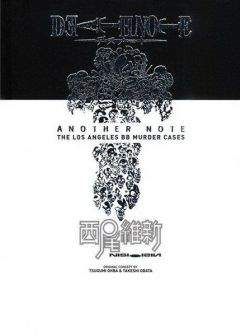Ашенбрехеру не было, конечно, никакой нужды или потребности скрывать свои впечатлѣнія, и онъ хвалилъ громко и восторженно: «Quelle beauté! Ah! Ce costume mirabolent! Mais c’est fabuleux! c’est curieux au plus haut dégrés!.. Какая жалость, что этотъ молодой человѣкъ такой преступникъ, такой негодяй!..»
На это Благовъ отвѣчалъ ему при насъ съ веселостью (онъ всегда при Ашенбрехерѣ былъ въ духѣ):
— Я жалѣю о другомъ… И я его видѣлъ, и отдаю справедливость и костюму его и наружности; и даже такъ оцѣнилъ все это, что пожалѣлъ объ одномъ: отчего я здѣсь не всемогущій сатрапъ… я сначала выписалъ бы изъ Италіи живописца, чтобы снять съ него портретъ, а потомъ повѣсилъ бы его… я не говорю: посадилъ бы его на колъ… потому что, какъ вы знаете, теперь это не принято… но я повѣсилъ бы его тоже картинно: при многолюдномъ сборищѣ и христіанъ, и турокъ, чтобы турки учились впередь быть осторожнѣе… И самъ присутствовалъ бы при этой казни… Я не шучу…
— О! — воскликнулъ, смѣясь, австріецъ, — какое нероновское соединеніе артистическаго чувства и кровожадности… О!..
Благовъ немного покраснѣлъ и отвѣчалъ:
— Что́ жъ Неронъ?.. Вотъ развѣ мать… Это конечно… Но нельзя же увѣрять себя, что пожаръ Рима былъ не красивъ…
— Ecoutez!.. — воскликнулъ Ашенбрехеръ, — вы сегодня ужасны!..
И, перемѣнивъ разговоръ, онъ началъ доказывать, что турки рѣшительно неисправимы и что всѣ надежды, возлагаемыя на нихъ въ Европѣ, напрасны… Это истлѣвающая нація!.. У нихъ есть сила только противу беззащитныхъ и слабыхъ, какъ напримѣръ въ Сиріи, а наказывать преступленія они не хотятъ или не умѣютъ…
Но Благовъ былъ въ этотъ день хотя и веселъ, но въ самомъ дѣлѣ ужасенъ…
— Зачѣмъ же вы всегда помогаете имъ подъ рукой? — спросилъ онъ безъ церемоніи и все съ тѣмъ же сіяющимъ побѣдоноснымъ лицомъ.
Ашенбрехеръ, впрочемъ, вышелъ изъ затруднительнаго положенія очень мило…
Онъ воскликнулъ:
— Послушайте! Что́ жъ намъ дѣлать противъ такого колосса какъ вы? Ваша Россія — это какой-то наивный Баобабъ! Она растетъ невинно, какъ дерево… Все не хочетъ завоеваній, всего боится, и все около нея трещитъ, какъ старый заборъ… Чего хотятъ ваши государственные люди — никто никогда понять не можетъ… Voyons, soyuz-donc bon enfant… Avoyez, que j’ai raison.
Но Благовъ отвѣтилъ ему на это такъ:
— Это очень зло, то, что́ вы говорите. Вы кажется хотите этимъ сказать, что мы, русскіе, сами не понимаемъ чего хотимъ… Бываетъ положимъ и такъ… но не всегда.
— А! А!.. — восклицалъ Ашенбрехеръ. — Разсказывайте!.. Никогда, никогда этого не бываетъ! Я хочу только сказать, что ваши государственные люди умѣютъ желать именно того, чего требуетъ минута; c’est organique… Ихъ воля необходимое проявленіе того, такъ сказать, естественнаго роста… о которомъ я говорю… Тѣмъ хуже!.. Тѣмъ хуже для насъ! Поставьте же, наконецъ, себя на мѣсто Австріи! — прибавилъ онъ съ жестомъ шуточнаго отчаянія.
— Ставлю, ставлю, — снисходительно сказалъ Благовъ.
Эта шуточная и довольно смѣлая бесѣда консуловъ кончилась тѣмъ, что Ашенбрехеръ при насъ обѣщалъ Благову не только написать интернунцію о необходимости удовлетворить жителей Нивицы и семью убитаго Па́но и наказать Джефферъ-Дэма, но обѣщалъ ему уговорить даже и Бреше для пользы самой Турціи сдѣлать то же и далъ слово, что бѣловую бумагу свою дастъ на прочтеніе Благову. Слово свое онъ сдержалъ, конечно, но онъ не клялся при этомъ, что онъ никакого другого и въ противоположномъ духѣ донесенія еще секретно не напишетъ своему начальству, и еще, прибавлю, впослѣдствіи оказалось, что слово, сказанное Благовымъ (не совсѣмъ въ шутку) о жаждѣ очень строго наказать Джефферъ-Дэма, Ашенбрехеромъ не было забыто.
Вотъ именно около этого времени, когда консулы рѣшились всѣ писать (въ Царьградъ о томъ, что Джефферъ-Дэма выпустили на поруки и что его серьезно судить паша кажется не намѣренъ, явились въ Янину тѣ представители Нивицы, которыхъ Кольйо, какъ земляковъ своихъ, помимо Бостанджи-Оглу, прямо привелъ ко мнѣ въ комнату.
Лишь только до Нивицы дошелъ слухъ о томъ, что Джефферъ-Дэмъ ходитъ свободно по Янинѣ, все село поднялось въ изступленіи и рѣшилось выселиться во что́ бы то ни стало и куда бы то ни было. Движеніе это понемногу сообщилосъ и жителямъ другихъ сосѣднихъ селъ. Однако селяне хотѣли сначала посовѣтоваться съ вліятельными лицами въ Янинѣ и пріобрѣсти себѣ поддержку въ консульствахъ; поэтому, выбравъ для этой цѣли надежныхъ людей, они поручили имъ прежде всего обратиться къ Благову и къ эллинскому консулу Киркориди.
Я принялъ жителей Нивицы, (ихъ было трое), разумѣется, какъ слѣдовало, съ уваженіемъ и участіемъ; посадилъ, угостилъ ихъ консульскимъ кофеемъ и самъ крутилъ имъ сигарки и спрашивалъ обо всемъ обстоятельно.
Я видѣлъ, что я имъ понравился, и одинъ изъ нихъ, старикъ, сказалъ мнѣ такъ:
— Жаль, что отца твоего здѣсъ нѣтъ… Какъ это такъ долго безъ хорошаго драгомана консулу оставаться?..
— Отецъ скоро будетъ, — отвѣчалъ я.
— Когда еще будетъ! А консулу бы нужно пока хорошаго драгомана изъ здѣшнихъ.
— Вотъ Бостанджи-Оглу пока ходитъ по дѣламъ въ Порту.
— Не здѣшній. Нужно бы здѣшняго, — сказали селяне. — Твой отецъ такой человѣкъ, какого нужно… А пока бы другого взяли; хорошо бы сдѣлали. Отчего консулъ Исаакидеса не возьметъ на время? Онъ человѣкъ грамотный, имѣетъ и мозгъ, и состояніе, и все, что́ нужно.
— Онъ и турокъ ненавидитъ такъ, какъ нужно, — прибавилъ съ веселою улыбкой другой.
Я отвѣчалъ, что это дѣло начальника, «а я что́ тутъ?»
— Нѣтъ, ты посовѣтовалъ бы это консулу, чтобъ онъ Исаакидеса взялъ.
Я сталъ догадываться, что это какія-нибудь внушенія со стороны самого Исаакидеса, которому хоть на одинъ бы мѣсяцъ хотѣлось послужить при русскомъ консульствѣ, чтобы покончитъ скорѣе какія-нибудь дѣла свои или дать имъ по крайней мѣрѣ выгодное направленіе. Я не могъ знать навѣрное, повредитъ ли это отцу моему или нѣтъ, и боялся, чтобъ Исаакидесъ не сумѣлъ бы такъ за это время понравиться своею дѣятельностью консулу, что отецъ, по возвращеніи своемъ, найдетъ мѣсто навсегда занятымъ.
Что Исаакидесъ желалъ стать хоть временно драгоманомъ, это я зналъ навѣрное, потому что онъ сталъ подъ разными предлогами почти ежедневно, съ перваго дня возвращенія Благова, ходить въ консульство и подобострастно улыбаться всѣмъ намъ.
Бостанджи-Оглу, который и не любилъ меня и завидовалъ мнѣ въ чемъ-то (я и не знаю въ чемъ именно), но и скрываться отъ меня не умѣлъ, еще вчера, глядя на подходящаго съ поклонами къ Благову Исаакидеса, сказалъ мнѣ такъ:
— Что́ за дьяволъ, иногда и этотъ Коэвино говоритъ хорошо! Правъ онъ, когда говорилъ, что у этого человѣка низкій и подлый видъ и что сюртукъ у него ужъ слишкомъ скверный и сальный, и усы даже всегда криво пробриты, и носъ виситъ… Ей Богу все это правда… Гляди, гляди, какъ онъ смотритъ снизу на консула. Хочетъ въ драгоманы попасть, у отца твоего мѣсто отбить…
— Хочетъ развѣ? — спросилъ я.
— Одно и то же все твердитъ: «Вамъ безъ Полихроніадеса трудно… Вамъ хоть на время нуженъ мѣстный человѣкъ».
— А консулъ что́? — еще спросилъ я.
— Не знаю. Молчитъ.
Для меня было понятно, что Бостанджи на всѣхъ сердится за то, что его самого никто драгоманомъ сдѣлать не желаетъ. Посмѣявшись надъ нимъ злорадно въ сердцѣ моемъ, я далъ себѣ слово написать поскорѣе обо всѣхъ этихъ обстоятельствахъ отцу и просить его, чтобъ онъ далъ мнѣ наставленіе относительно моего собственнаго поведенія, когда ко мнѣ люди будутъ обращаться съ вопросами или просьбами, касающимися чего-нибудь подобнаго.
На этомъ-то основаніи и этимъ сельскимъ представителямъ я отвѣчалъ, что не мнѣ, мальчишкѣ, приличествуетъ давать консулу совѣты, что онъ знаетъ самъ, кого взять нужно.
Селяне, услыхавъ мой сухой отвѣтъ, какъ будто даже испугались немного и поспѣшили согласиться со мной.
— Конечно, конечно! Какъ консулу самому всего не знать!
Но простодушный Кольйо, который присутствовалъ при нашемъ совѣщаніи, вмѣшался въ дѣло и сказалъ своимъ землякамъ:
— Это Одиссей хорошо говоритъ, что ему не пристойно давать консулу совѣты.
— Не совѣты, а такъ только одно слово, живя въ домѣ… мы говорили… Мы тоже знаемъ, — перебили селяне обидчиво.
— Стой, стой! — прервалъ ихъ Кольйо, одушевляясь, — и я не дуракъ, ты знаешь… Ты стой, что́ я тебѣ, патріотъ96, скажу… Ты самъ консулу скажи такъ: «Мы, конечно, и такъ, и такъ… а вы бы, ваше сіятельство, Исаакидеса взяли, чтобы хоть по нашему дѣлу онъ похлопоталъ бы пока до г. Полихроніадеса…» Что́? Развѣ я глупо сказалъ?
И Кольйо началъ смѣяться и на всѣхъ насъ поочереди взглядывалъ, радуясь своей тонкости и своей политикѣ.
Селяне нашли, что въ самомъ дѣлѣ правда и, какъ только г. Благовъ отперъ дверь своего кабинета, такъ Кольйо доложилъ ему о приходѣ этихъ людей и отвелъ ихъ къ нему.
Они очень долго у него сидѣли, долго говорили съ нимъ и вышли отъ него очень довольные.