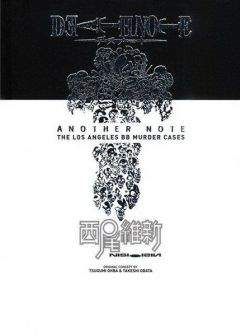Я не лгалъ, и г. Благовъ больше меня объ этомъ не разспрашивалъ.
Въ этотъ же самый день, послѣ обѣда, Кольйо пришелъ ко мнѣ и сказалъ, что Исаакидесъ, уходя домой, былъ очень веселъ, искалъ меня, не нашелъ и поручилъ ему, Кольйо, звать меня къ себѣ провести вечеръ.
Я собрался итти и съ удивленіемъ увидалъ, что и Кольйо идетъ туда же.
— И ты идешь туда? И тебя звали? — спросилъ я.
— Я иногда бываю у нихъ, — отвѣчалъ Кольйо.
Я не зналъ, что онъ бываетъ иногда у Исаакидеса въ домѣ и принятъ тамъ почти на правахъ равенства, и думалъ сначала, что онъ хвалится…
У Исаакидеса въ домѣ всегда было довольно хорошо, привѣтливо, не скучно. Все почти по-янински, — тихо, довольно опрятно, просторно; большіе турецкіе диваны кругомъ стѣнъ, покрытые полушерстянымъ, полубумажнымъ штофомъ, который зовется дамаско, оранжевымъ съ зелеными разводами; на бѣлыхъ оштукатуренныхъ стѣнахъ большіе портреты европейскихъ государей; русскій императоръ съ голубою лентой; австрійскій въ бѣломъ мундирѣ; Викторія; прусскій коронованный герой съ сѣдыми бакенбардами; Наполеонъ съ усами тонкими; король Галантуомо — съ усами толстыми; былъ на всякій случай и портретъ Абдулъ-Азиса, но онъ былъ гораздо меньше другихъ и висѣлъ особо надъ входною дверью, такъ, что грекамъ можно было сказать: «Я отдѣлилъ его прочь отъ царей Христа признающихъ!» А если придетъ съ визитомъ турокъ, то ему можно было сказать съ улыбкой любви: «Падишахъ входъ мой осѣняетъ всегда!»
Самъ Исаакидесъ былъ хозяинъ дома ласковый, веселый и простой… Супруга его кира Киріакица была не особенно хороша собой, но смотря по вкусу могла быть и пріятна. Ей было лѣтъ двадцать пять, двадцать шесть. Какъ сказать объ ней? Мнѣ бы хотѣлось, чтобы ты вообразилъ ее себѣ поживѣе (у меня на это есть особыя причины). Она роста была небольшого, сложена хорошо, моложава, но цвѣтъ лица ея былъ желтоватый и ровный, какъ цвѣтъ воска. Глаза ея только были очень недурны: голубые и задумчивые. Мнѣ всегда нравилось, что она держала себя и естественно и какъ-то немножко, немножко… не то гордо, не то осторожно. Она почти каждое лѣто ѣздила въ Корфу купаться и посѣтить знакомыхъ и пріобрѣла тамъ немного больше другихъ янинскихъ дамъ свободы въ обращеніи съ мужчинами. Эпирскія (и не однѣ эпирскія, но скажу вообще и греческія, и болгарскія, и вѣроятно сербскія дамы) не то, чтобы стыдятся, но онѣ сидятъ и смотрятъ на гостя и говорятъ съ нимъ такъ, что чужой мужчина не знаетъ, что́ имъ сказать, и все поневолѣ обращается къ мужу… И ему становится какъ-то стыдно, и онъ поскорѣе уходитъ домой.
Госпожа Исаакидесъ, хотя и очень тихая по манерамъ своимъ и характеру, умѣла однако ободрить гостя тѣмъ, что сама безпрестанно заговаривала съ нимъ, предлагая довольно разнообразные вопросы, или сама разсказывала разныя вещи…
Одѣвалась она не по янински, малакофъ99 у нея не былъ ужъ такъ широкъ, какъ у другихъ; на головѣ дома не было ничего, а на улицѣ она носила круглыя шляпки, какъ madame Бреше, только подешевле, и шлейфа длиннаго у нея не было. У нея были какія-то черненькія кофточки или курточки, которыя очень хорошо обрисовывали ея тонкій станъ и придавали ей много миловидности и моложавости.
Она чаще другихъ архонтиссъ ходила къ madame Ашенбрехеръ, къ madame Бреше и къ дочери Киркориди и очень любила сама разсказывать такъ кротко и задумчиво о консульскихъ семействахъ.
— Попробуйте этого варенья, это madame Ашенбрехеръ прислала мнѣ. Я посылаю ей наше варенье, греческое, она посылаетъ мнѣ варенье нѣмецкое. Мы очень съ ней дружны. Она такая милая женщина!
— Вчера я была у madame Бреше. Ей еще привезли два шелковыхъ платья изъ Парижа. Одно дикаго цвѣта съ бѣлыми и фіолетовыми цвѣтами, шлейфъ огромный; а другое абрикосоваго цвѣта съ розовою отдѣлкой. Какая красота!.. Гдѣ она, бѣдная, здѣсь это надѣвать будетъ!..
— Третьяго дня я была у madame Киркориди! Какъ жаль, что эта прекрасная дѣвица коса и не вышла замужъ.. Она очень желала бы имѣть фортепіано, но сюда нести на рукахъ черезъ горы такую тяжелую вещь очень трудно и дорого.
И все это такъ медленно и чувствительно, голосомъ мягкимъ, не крикливымъ, какъ у другихъ архонтиссъ.
Долгоносая и страшная madame Бреше говорила про нее:
— Madame Исаакидесъ для восточной женщины довольно мила. — И потомъ прибавляла, откидываясь томно на спинку кресла своего: — разумѣется она не можетъ имѣть всей граціи истинно европейской женщины (la grâce d’une vraie européenne!) Однако…
Исаакидесъ казался къ женѣ своей очень вннмательнымъ и двухъ дочекъ своихъ маленькихъ онъ очень любилъ.
Въ исторіи женитьбы ихъ было, впрочемъ, столько особеннаго, что я не могу не остановиться немного на ней и не разсказать тебѣ ее мимоходомъ.
Исаакидесъ видѣлъ Киріакицу до брака сначала еще почти ребенкомъ, тогда, когда еще ее выпускали при мужчинахъ; видалъ онъ другую младшую сестру ея Марію; разница въ годахъ была между ними мала, но въ красотѣ большая. Младшая сестра, которая потомъ вышла замужъ за другого архонта, была красива и свѣжа, какъ картинка. Киріакица въ отрочествѣ своемъ была гораздо хуже, чѣмъ теперь. Исаакидесъ сватался за младшую чрезъ знакомыхъ женщинъ и чрезъ родственниковъ и просилъ за ней восемьсотъ лиръ приданаго. Долго спорили, однако, наконецъ, согласились на шестистахъ лирахъ, и свадьба была назначена секретно въ домѣ родителей, такъ какъ женихъ былъ эллинскій подданный, а невѣста дочь райя100. Собрались родные, пригласили священника, женихъ ждалъ; вывели изъ внутреннихъ комнатъ нарядную невѣсту…
Исаакидесъ съ ужасомъ и удивленіемъ увидалъ, что это была не Марія, а Киріакица, не красавица — младшая, а эта блѣдная, восковая дѣвушка небольшого роста. Онъ смутился и не зналъ, что́ дѣлать. Но родные окружили его, хвалили Киріакицу, умоляли не срамить, твердя, что невозможно младшую выдать прежде старшей и, наконецъ, отецъ сказалъ жениху:
— Хорошо, добрый и милый другъ мой, ты человѣкъ разумный. Ты желалъ восемьсотъ лиръ?.. Вотъ тебѣ восемьсотъ пятьдесятъ… Успокой ты меня старика. Возьми ихъ; я за дѣтей своихъ послѣднюю каплю крови моей отдамъ…
Исаакидесъ взялъ деньги, вздохнулъ и обвѣнчался…
Но вѣдь и у него былъ одинъ рядъ «бѣлыхъ зубовъ»… Онъ былъ человѣкъ уживчивый и, помимо безстыдства своего въ политикѣ и тяжбахъ, я готовъ сказать, скорѣе добрый, чѣмъ злой.
Они жили послѣ этого съ женой очень согласно, лучше, чѣмъ живутъ многіе изъ женившихся охотно, и даже, какъ бываетъ въ другихъ мѣстахъ, по страсти (у насъ же ни въ ЯнинѢ, ни въ Загорахъ по страсти никто еще никогда не женился).
Онъ все улыбался подъ кривыми усами своими. Она все пѣла-распѣвала голоскомъ своимъ и все хвалила, что́ только ни есть на этомъ Божьемъ свѣтѣ. Обороты денежные шли недурно. Диваны оранжевые съ зеленымъ были; шелковыя кофточки и шляпки были; дѣти были. Домъ свой былъ. Въ Корфу купаться ѣздила… Консульскія жены и дочери хвалили и варенье присылали.
Чего же еще хотѣть? Хорошо!
Имъ было хорошо и намъ, гостямъ, было хорошо.
Мнѣ, по крайней мѣрѣ, было очень пріятно. Вечеръ прошелъ разумно, какъ проводятся иногда вечера въ благочинныхъ семействахъ восточныхъ христіанъ.
Кромѣ меня и Кольйо, были тутъ въ этотъ вечеръ — мать госпожи Исаакидесъ: почтенная старушка, одѣтая очень опрятно, въ темномъ платьѣ и въ черномъ платочкѣ; она почти ничего не говорила, но держала себя съ важною пріятностью и съ достоинствомъ улыбалась, слушая другихъ. И былъ еще одинъ гость, пріѣзжій изъ Аѳинъ, г. Вамвако́съ, законникъ, молодой человѣкъ лѣтъ подъ тридцать на видъ. Онъ былъ очень разговорчивъ и казался мнѣ занимательнымъ и весьма образованнымъ. (Какъ моя встрѣча, такъ и встрѣча Кольйо съ этимъ человѣкомъ въ этотъ вечеръ оставила довольно значительные слѣды на послѣдующихъ нашихъ думахъ и осталась не безъ вліянія на нашу судьбу.) Панталоны у него были гораздо уже, чѣмъ у Исаакидеса и другихъ нашихъ янинскихъ, почти такіе же узкіе, какъ и у Благова и Бакѣева и какіе-то яркіе. И не только панталоны, самъ онъ весь былъ очень узенькій, длинненькій, высокенькій, жиденькій, блѣдненькій. И головка его по росту была слишкомъ маленькая. Только бакенбарды довольно густы и велики.
Я помню, что я долго не могъ дать себѣ отчета въ томъ впечатлѣніи, которое онъ производилъ на меня. Какъ будто бы оно было нехорошо… А, впрочемъ, какъ будто и хорошо. Хорошо было оно потому, что въ немъ было съ избыткомъ замѣтно все то, что́ я привыкъ уважать и о чемъ даже и мечталъ нерѣдко для себя.
Обучался онъ въ просвѣщенныхъ и свободныхъ Аѳинахъ, въ университетѣ. Платье европейское, и даже модное (хотя къ благовскому европейскому платью оно относилось, какъ «листъ поблекшій и пожелтѣлый, гонимый осеннимъ вѣтромъ», относится къ созрѣвшему бутону, но все-таки…), говоритъ языкомъ самымъ тонкимъ и высокимъ. Громитъ деспотизмъ. Хвалитъ аѳинскую мостовую. Цѣпочка у него большая золотая на часахъ и ключикъ такой, какого я еще и не видалъ: не особенный, отъ часовъ, а такъ прямо возьметъ онъ за шишечку какую-то у часовъ пальцами, небрежно раскинувшись на диванѣ, затрещитъ шишечка тихонько, и завелись часы.