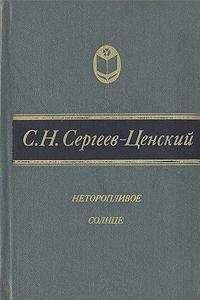Сразу за крыльцом было темно, и в темноте этой сверху лениво теплились звезды, снизу — лениво же вспыхивал и потухал вечерний собачий перелай: перелаивались собаки усадьбы с деревенскими собаками; должно быть, передавали друг другу вздорные, мелкие, глупые житейские новости, скопившиеся за день. Антон Антоныч шагал по балкону, втягивая в себя эту теплую, привычно звучащую темноту и розовые блестки в вине, запах соломы, тянувшийся с тока, и думал умиротворенно о жене, что вот она подобрела с тех пор, как получила свои сто тысяч, — посвежела, подобралась, даже ходить стала как-то ветреней и моложе… шельма-баба! И о Веденяпине думал весело, что он поездит так по помещикам и ни с того ни с сего получит от своего друга-агента сто — двести рублей… охотник, шельма! И о соломе думал по-родному, что хорошо все-таки, что он ее застраховал.
Встал Веденяпин.
— Подпишись вот здесь — и конец.
— И ко-нец! — нараспев повторил, садясь, Антон Антоныч. — И ко-нец, милейший мой, ко-нец!..
Но когда, подписавшись уже крупно и четко четырехугольными буквами, взглянул он на Веденяпина, он заметил, что тот, держа руки сзади, медленно шевелил большими пальцами, палец за палец, точно веревку сучил. Антон Антоныч поглядел онемело в лицо Веденяпина. Над синеватой белизной кителя высоко и спокойно поднялись желтые глаза, полуспрятанные в жестких, морщинистых веках; нижняя губа выпятилась ожидающе строго, и округлел сизый, каменно-твердый подбородок. И в то же время как-то неясно почувствовал Антон Антоныч, что никого нет, кроме него, на балконе, что свечи только здесь, а дальше темно, и пахнет сосною.
— Ты… пальцами что сучишь? — пробормотал Антон Антоныч. — Ты… не сучи!..
— А? — нагнулся к нему, не поняв, Веденяпин.
— Не крути… Не люблю я, когда у меня под носом, как сказать… так вот… Не люблю!
— Ты что это?.. Ты подписался? — спросил Веденяпин.
— Я подписался, — ответил Антон Антоныч.
— Ну хорошо… И давай деньги.
— И хорошо… А, конечно, хорошо… Чем же плохо?.. И дам деньги… — медленно ответил Антон Антоныч.
Руки Веденяпина отошли от спины и уперлись в стол рядом с руками Антона Антоныча. Он посмотрел на эти почернелые от загара руки с длинными паучьими пальцами, вспомнил, что Веденяпин должен был уйти из полка за нечистую игру в карты, — и вдруг взял его за правую руку своей, подобрал один к другому эти пальцы и сказал:
— А ну, брат, чи у тебя рука крепче, чи у меня? Жми изо всей силы, так, чтобы аж… кровь из носу, ну-у? — И встал.
Веденяпин был выше Антона Антоныча, но чуть-чуть на носки приподнялся Антон Антоныч, чтобы серые глаза его пришлись вровень с желтыми глазами Веденяпина. Веденяпин был лет на пятнадцать моложе Антона Антоныча и шире в плечах и руках, но всю свою упругую степную жилистость изо всех уголков тела собрал Антон Антоныч. Веденяпин улыбнулся, оскалил клыкатые зубы и сузил глаза, но закусил губы Антон Антоныч и в корнях волос на темени чувствовал бегающий холод.
— Ну, та дави, не бойсь!.. Та не бойся, дави смело!.. Ты ведь силач, охотник, как сказать, о-фицер! — пропускал сквозь зубы Антон Антоныч.
И так, неизвестно сколько, но показалось, что страшно долго это было. Он видел, что перестает уже улыбаться Веденяпин, что под кителем напружилась и разгладила складки грудь, и плывут уже на смену ближним дальние запасы сил, широко смотрел прямо в желтые глаза и говорил полушепотом:
— А шо, малый, га?.. То как будто и не так легко это, га?
Почувствовал, что передвигает свою ладонь ближе к его пальцам Веденяпин, — и крикнул, откачнув голову.
— Чест-но-о! Т-ты-ы… — и глубже просунул на прежнее место свою ладонь.
— Будет! — рыкнул вдруг Веденяпин, выдернул и добавил: — Ты, этого… Я двумя пудами крещусь, а у тебя какая такая особенная сила?.. Тоже!..
— То уж бог его святой знает, та бог знает, та бог знает… — довольно разминал свою руку Антон Антоныч и, заглядывая сбоку прямо в его желтые глаза, смеялся весело.
Уехал — пропал в темноте — Веденяпин на своей пегой лошади. Утром Антон Антоныч поехал в город, а когда приехал через три дня, — узнал, что загорелись два стога соломы и сгорели дотла, что едва отстояли другие два стога и постройки, что нашли в соломе какие-то пропитанные фосфором тряпки и в умышленном поджоге обвиняют его.
VII
Никогда Антон Антоныч не пел, не играл ни на каком инструменте, не свистал даже в шутку, и все-таки какое-то певучее было у него тело. Точно духовой оркестр играл далеко где-то, сзади его, но на всякий звук в этом оркестре отзывался он: просто врывались в него звуковые волны и пели.
Бурно играл оркестр, точно дирижер был весело пьян и не хотел уже признавать никаких andante и moderato, и выпуклой круглотою щек щеголяли флейтисты, и медногруды были те, что дули в медные трубы. И если и делал иногда паузы оркестр, то только затем, чтобы тут же, собравши силы, броситься далеко вперед тигровым броском, этаким упругим, ловким и ярким, не знающим промаха.
И так как-то за все свои пятьдесят семь лет, не зная нот, читал все-таки какие-то сложные ноты Антон Антоныч и, не умея танцевать, шаг за шагом строил свою жизнь, как несколько запутанный, но все-таки правильный бравурный танец.
Антон Антоныч вставал раньше рабочих, по непросохшей еще росе объезжал поля, часто врасплох заставал мужицких лошадей на потравах, сам их ловил, связывал их обротью, пригонял табунком в усадьбу и отпускал только под штрафы. Земли в аренду сдавал мало и арендные деньги требовал вперед сполна. Ругался так разнообразно, что даже мастера по части ругани в Тростянке не все понимали, и долго — минут по двадцать без передышки; и на слово и на руку был скор. Даже то, что у него в полях не было почти толоки, что и земле своей он не давал отдыха и каждый год выжимал из нее соки, — возбуждало против него тростяновцев.
Имение свое здесь Антон Антоныч купил лет семь назад и, кроме Веденяпина, не дружил ни с кем из окрестных помещиков.
Сёзя, беленький, тонкий восемнадцатилетний мальчик, сам выехал на станцию встречать отца и первый сказал ему о пожаре. Так это и вошло в Антона Антоныча тонкой, белой, широкоглазой, жалящей струей: был пожар, сгорела солома — поджог.
В это время стоял благодатный, золототканный, пахучий вечер. Только что зашло солнце — еще виден был прорвавшийся сквозь облако одинокий зеленый луч, земля чуть заметно осела вниз, и чуть поднялось небо, и синий околыш новенькой студенческой фуражки Сёзи отсвечивал кротким лиловым.
Антон Антоныч сидел в коляске рядом с правившим Сёзей, как-то особенно тесно чувствовал себя в нем, и то говорил с ним, как с самим собою, тихо, то вдруг кричал так, что серая лошадь поджимала от неожиданности хвост, фыркала и пряла ушами.
— Митрофана избили… — рассказывал Сёзя.
— Кто ж смел? За что? — кричал Антон Антоныч.
— Да он… тряпки эти самые с фосфором прятал… Мужики и избили…
— Зачем прятал?
— А черт его, дурака, знает, зачем? — раздражался Сёзя и не смотрел на отца: насупясь, смотрел в переплет шлеи и дергал вожжи.
— Стало быть, Митрофан поджег? А?.. Шо я ему, вору, розчет даю, шо не беру з собою, так за это он мне?.. — тихо спрашивал Антон Антоныч.
— Да нет… его не за то били, — уклончиво ответил Сёзя и зачем-то тонко сплюнул сквозь зубы, чмокнул и присвистнул на лошадь.
— Та говори ж, за что? Што ты, как беззуба баба, ррот прячешь за пазуху… а?
Сёзя молчал.
— Так за побои они, мерзавцы, ответят по зо-ко-ну! По зо-ко-ну ответят скоты! — кричал Антон Антоныч. — То ж такого зо-кону нет, как сказать, шоб людей бить зря!.. — и добавлял вдруг тихо: — А може, и не зря его били?
Сёзя посмотрел на отца вполоборота, кашлянул и сказал твердо:
— Били его за то, что… будто он тебя покрывает.
Сказал и отвернулся.
— Ме-нья? Как ме-нья? — медленно спросил Антон Антоныч, приподняв брови.
— Да будто это ты тряпки в стога засунул, когда уезжал… — несмело взглянул исподлобья Сёзя.
— И-я-я?
— А потом фосфор воспламенился, когда высох, — и загорелось… — докончил и отвернулся Сёзя.
— Я-я? Как я? — привстал на сиденье Антон Антоныч.
Ободренный его оторопью, Сёзя повернул к нему все вспыхнувшее лицо и заговорил сбивчиво:
— По усадьбе шарили, тебя искали… «В двух шагах от хат от наших солому жечь?.. Где он, кричат, мы ему руки-ноги свяжем!..»
— Мне-е?
— «Свяжем да в… огонь…» Сжечь тебя хотели…
Сёзя улыбнулся длинно и криво, а на большие глаза его проступили непослушные слезы.
— Так вот так и кри-ча-ли: «Сжечь!»? Га? — вскрикнул Антон Антоныч.
Сёзя смотрел в его глаза под косыми бровями, круглые, жаркие, как те стога, что горели, и молчал.
— В ог-гонь?
Молчал Сёзя.
— Так как же вы?.. Кто ж был дома?
— Никого не было, — сказал Сёзя.