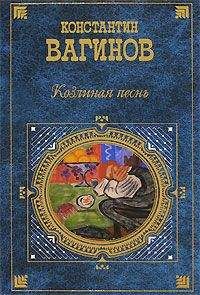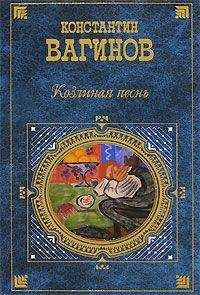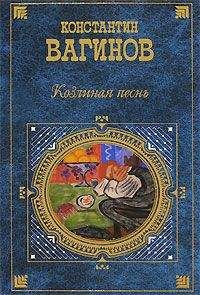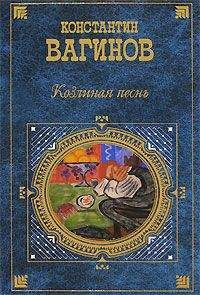Один бреду среди рогов Урала…
Один бреду среди рогов Урала,
Гул городов умолк в груди моей,
Чернеют косы на плечах усталых, —
Не отрекусь от гибели своей.
Давно ли ты, возлюбленная, пела,
Браслеты кораблей касались островов,
Но вот один оплакиваю тело,
Но вот один бреду среди снегов.
В нагорных горнах гул и гул, и гром…
В нагорных горнах гул и гул, и гром,
Сквозь груды гор во Мцхетах свечи светят,
Под облачным и пуховым ковром
Глухую бурю, свист и взвизги слышишь?
О, та же гибель и для нас, мой друг,
О так же наш мохнатый дом потонет.
В широкой комнате, где книги и ковры,
Зеленой лампы свет уже не вздрогнет.
И умер он не при луне червонной…
И умер он не при луне червонной,
Не в тонких пальцах золотых дорог,
Но там, где ходит сумрак желтый,
У деревянных и хрустящих гор.
Огонь дрожал над девой в сарафане
И ветер рвал кусок луны в окне,
А он все ждал, что шар плясать устанет,
Что все покроет мертвый белый снег.
Крутись же, карусель, над синею дорогой,
Подсолнечное семя осыпай,
Пусть спит под ним тяжелый, блудный город,
Души моей старинный, черный рай.
Я встал пошатываясь и пошел по стенке…
Я встал пошатываясь и пошел по стенке
А Аполлон за мной, как тень скользит
Такой худой и с головою хлипкой
И так протяжно, нежно говорит:
«Мой друг, зачем ты взял кусок Эллады,
Зачем в гробу тревожишь тень мою!»
Забился я под злобным жестким взглядом
Проснулся раненый с сухой землей во рту.
Ни семени ни шелкового зуда
Не для любви пришел я в этот мир
Мой милый друг, вдави глаза плечами
И обверни меня изгибом плеч твоих.
Палец мой сияет звездой Вифлеема…
Палец мой сияет звездой Вифлеема
В нем раскинулся сад, и ручей благовонный звенит,
И вошел Иисус, и под смоквой плакучею дремлет
И на эллинской лире унылые песни твердит.
Обошел осторожно я дом, обреченный паденью,
Отошел на двенадцать неровных, негулких шагов
И пошел по Сенной слушать звездное тленье
Над застывшей водой чернокудрых снегов.
Чернеет ночь в моей руке подъятой…
Чернеет ночь в моей руке подъятой,
Душа повисла шаром на губах;
А лодка все бежит во ржи зеленоватой,
Пропахло рожью солнце в облаках.
Что делать мне с моим умершим телом,
Зачем несусь я снова на восход;
Костер горел и были волны белы,
Зачем же дверь опять меня зовет?
Бреду по жести крыш и по оконным рамам,
Знакомый запах гнили и болот.
Ходил другой с своею вечной дамой,
Ходил внизу и целовал ей рот.
Темнеет море и плывет корабль…
Темнеет море и плывет корабль
От сердца к горлу сквозь дожди и вьюгу
Но нет пути и пухнут якоря
Горячим сургучом остекленели губы
Их не разъять не выпустить корабль
Матросы в шубах 3-й день не ели
Напрасно всходит глаз моих заря
Напрасно пальцы бродят по свирели.
Вышел на Карповку звезды считать…
Вышел на Карповку звезды считать
И аршином Оглы широкую осень измерить
Я в тюбетейке на мне арестантский бушлат
А за спиной Луны перевитые песни.
Друг мой студентом живет в малой Эстонской стране
Взял балалайку рукой безобразной
Тихо выводит и ноет и ночи поет
И мигает затянутым пленкою глазом.
Знаю там девушки с тающей грудью как воск
Знаю там солнце еще разудалой и милой Киприды
Но этот вечер холодный тяжелый как лед
Перс мой товарищ и лейтенант Атлантиды
Перс не поймет только грустно станет ему
Вспомнит он сад и сермяжные волжские годы
И лейтенант вскинет глаза в темноту
И услышит в домах голоса полосатого моря.
Прохожий обернулся и качнулся…
Прохожий обернулся и качнулся
Над ухом слышит он далекий шум дубрав
И моря плеск и рокот струнной славы
Вдыхает запах слив и трав.
«Почудилось, наверное, почудилось!
Асфальт размяк, нагрело солнце плешь!»
Я в капоре иду мои седые кудри
Белей зари и холодней чем снег.
Ты догорело солнце золотое…
Ты догорело солнце золотое
И я стою свечою восковой
От пирамид к декабрьскому покою
Летит закат гробницей ледяной
Ко мне старик теперь заходит непрестанно
Он механичен разукрашен и певуч.
Но в сундуке его былой зари румянец
Широкий храм и пара белых туч.
Дыханьем Ливии наполнен Финский берег.
Бреду один средь стогнов золотых.
Со мною шла чернее ночи Мэри,
С волною губ во впадинах пустых.
В моем плече тяжелый ветер дышит,
В моих глазах готовит ложе ночь.
На небе пятый день
Румяный Нищий ищет,
Куда ушла его земная дочь.
Но вот двурогий глаз повис на небе чистом,
И в каждой комнате проснулся звездочет.
Мой сумасшедший друг луну из монтекристо,
Как скрипку отзвеневшую, убьет.
В последний раз дотронуться до облаков поющих,
Пусть с потолка тяжелый снег идет,
Под хриплой кущей бархатистых кружев
Рыбак седой седую песнь прядет.
Прядет ли он долины Иудеи
Иль дом крылатый на брегах Невы,
В груди моей старинный ветер рдеет,
Качается и ходит в ней ковыль.
Но он сегодня вышел на дорогу,
И с девушкой пошел в мохнатый кабачок.
Он как живой, но ты его не трогай,
Он ходит с ней по крышам широко.
Шумит и воет в ветре Гала-Петер
И девушка в фруктовой слышит струны арф,
И Звездочет опять прядет в своей карете
И над Невой клубится синий звездный пар.
Затем над ним, подъемля крест червонный,
Качая ризой над цветным ковром,
Священник скажет: —
Умер раб Господний, —
Иван Петров лежит в гробу простом.
Мой дом двурогий дремлет на Эрмоне
Псалмы Давида, мята и покой.
Но Аполлон в столовой ждет и ходит
Такой безглазый, бледный и родной.
Рябит рябины хруст под тонкой коркой неба,
А под глазами хруст покрытых пледом плеч,
А на руке браслет, а на коленях требник,
На голове чалма. О, если бы уснуть!
А Звездочет стоит безглазый и холодный,
Он выпил кровь мою, но не порозовел,
А для меня лишь бром, затем приют Господень
Четыре стороны в глазете на столе.
У каждого во рту нога его соседа…
У каждого во рту нога его соседа,
А степь сияет. Летний вечер тих.
Я в мертвом поезде на Север еду, в город
Где солнце мертвое, как лед блестит.
Мой путь спокоен улеглись волненья
Не знаю, встретит мать? пожмет ли руку?
Я слышал, город мой стал иноком спокойным
Торгует свечками поклоны бьет
Да говорят еще, что корабли приходят
Теперь приходят когда город пуст
Вино и шелк из дальних стран привозят
И опьяняют мертвого и одевают в шелк.
Эх, кочегар, спеши, спеши на север!
Сегодня ночь ясна. Как пахнет трупом ночь!
Мы мертвые Иван, над нами всходит клевер
Немецкий колонист ворочает гумно.
Стали улицы узкими после грохота солнца…
Стали улицы узкими после грохота солнца
После ветра степей, после дыма станиц…
Только грек мне кивнул площадная брань в переулке,
Безволосая Лида бежит подбирая чулок.
Я боюсь твоих губ и во рту твоем язва.
Пролетели те ночи городской и небесной любви.
Теплый хлев, чернокудрая дремлет Марыся
Под жестоким бычьим полушубком моим.
Все же я люблю холодные жалкие звезды…
Все же я люблю холодные жалкие звезды
И свою опухшую белую мать.
Неуют и под окнами кучи навоза
И траву и крапиву и чахло растущий салат.
Часто сижу во дворе и смотрю на кроличьи игры
Белая выйдет Луна воздух вечерний впивать
Из дому вытащу я шкуру облезлую тигра.
Лягу и стану траву, плечи подъемля, сосать.
Да, в обреченной стране самый я нежный и хилый
Братья мои кирпичи, Остров зеленый земля!
Мне все равно, что сегодня две унции хлеба
Город свой больше себя, больше спасенья люблю.
Рыжеволосое солнце руки к тебе я подъемлю…
Рыжеволосое солнце руки к тебе я подъемлю
Белые ранят лучи, не уходи я молю
А по досчатому полу мать моя белая ходит
Все говорит про Сибирь, про полянику и снег.
Я занавесил все окна, забил подушками двери
Над головой тишина, падает пепел как гром
Снова в дверях города и волнуются желтые Нивы
И раскосое солнце в небе протяжно поет.