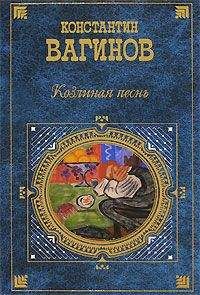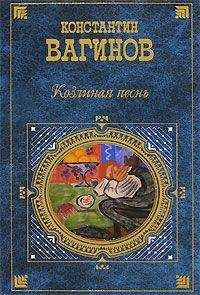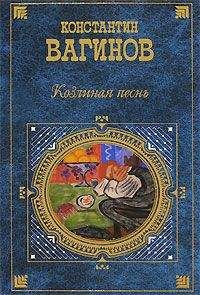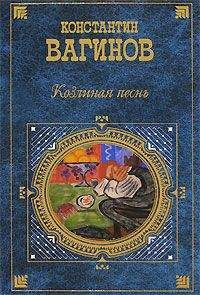1922
Любовь страшна не смертью поцелуя,
Но скитом яблочным, монашеской ольхой,
Что пронесутся в голосе любимой
С подщелкиваньем резким: «Упокой».
Давно легли рассеянные пальцы
На плечи детские и на бедро твое, —
И позабыл и волк, и волхв и лирник
Гортанный клекот лиры боевой.
Мой конь храпит и мраморами брызжет.
Не променяю жизнь на мрамор и гранит,
Пока в груди живое сердце дышит,
Пока во мне живая кровь поет.
Кует заря кибитку золотую,
Пегас, взорли кипящую любовь, —
Так говорю, и музу зрю нагую
В плаще дырявом и венке из роз.
Богоподобная, пристало ли томиться,
Оставь в покое грешного певца.
Колени женские прекраснее, чем лица
Прекрасномраморного мудреца.
Любовь страшна, монашенкою смуглой
Ты ждешь меня и плачешь на заре,
Ольха скрипит, ракитный лист кружится,
И вместо яства уксус и полынь.
Мой бог гнилой, но юность сохранил,
И мне страшней всего упругий бюст и плечи,
И женское бедро, и кожи женской всхлип,
Впитавший в муках муку страстной ночи.
И вот теперь брожу, как Ориген,
Смотрю закат холодный и просторный.
Не для меня, Мария, сладкий плен
И твой вопрос, встающий в зыби черной.
Лишь шумят в непогоду ставни,
Сквозь сквозные дома завыванье полей.
Наш камин, и твое золотое лицо, словно льдина,
За окном треск снегов и трава.
Это вечер, Мария. Средь развалин России
Горек вкус у вина. Расскажи мне опять про любовь,
Про крылатую, черную птицу с большими зрачками
И с когтями, как красная кровь.
В пернатых облаках все те же струны славы,
Амуров рой. Но пот холодных глаз,
И пальцы помнят землю, смех и травы,
И серп зеленый у брегов дубрав.
Умолкнул гул, повеяло прохладой,
Темнее ночи и желтей вина
Проклятый бог сухой и злой Эллады
На пристани остановил меня.
Ночь отгорела оплывшей свечой восковою,
И над домом моим белое солнце скользит.
На паркетном полу распростерлись иглы и хвои,
Аполлон по ступенькам, закутавшись в шубу, бежит.
Но сандалии сохнут на ярко начищенной меди.
Знаю, завтра придет и, на лире уныло бренча,
Будет петь о снегах, где так жалобны звонкие плечи,
Будет кутать унылые плечи в меха.
Да, я поэт трагической забавы,
А все же жизнь смертельно хороша.
Как будто женщина с линейными руками,
А не тлетворный куб из меди и стекла.
Снует базар, любимый говор черни.
Фонтан Бахчисарайский помнишь, друг?
Так от пластических Венер в квадраты кубов
Провалимся.
На скоротечный путь вступаю неизменно,
Легка нога, но упадает путь:
На Киликийский Тавр – под ухом гул гитары,
А в ресторан – но рядом душный Тмол.
Да, человек подобен океану,
А мозг его подобен янтарю,
Что на брегах лежит, а хочет влиться в пламень
Огромных рук, взметающих зарю.
И голосом своим нерукотворным
Дарую дань грядущим племенам,
Я знаю – кирпичом огнеупорным
Лежу у христианских стран.
Струна гудит, и дышат лавр и мята
Костями эллинов на ветряной земле,
И вот лечу, подхваченный спиралью.
Где упаду?
И вижу я несбывшееся детство,
Сестры не дали мне, ее не сотворить
Ни рокоту дубрав великолепной славы,
Ни золоту цыганского шатра.
Да, тело – океан, а мозг над головою
Склонен в зрачки и видит листный сад
И времена тугие и благие Великой Греции.
Скрутилась ночь. Аиша, стан девичий,
Смотри, на лодке, Пряжку серебря,
Плывет заря. Но легкий стан девичий
Ответствует: «Зари не вижу я».
Да, я поэт трагической забавы,
А все же жизнь смертельно хороша,
Как будто женщина с линейными руками,
А не тлетворный куб из меди и стекла.
Снует базар, любимый говор черни.
Фонтан Бахчисарайский помнишь, друг?
Так от пластических Венер в квадраты кубов
Провалимся.
Покатый дом и гул протяжных улиц.
Отшельника квадратный лоб горит.
Овальным озером, бездомным кругом
По женским плоскостям скользит.
Да, ты, поэт, владеешь плоскостями,
Квадратами ямбических фигур.
Морей погасших не запомнит память,
Ни белизны, ни золота Харит.
Июнь 1922
Бегу в ночи над Финскою дорогой…
Бегу в ночи над Финскою дорогой.
России не было – колониальный бред.
А там внутри земля бурлит и воет,
Встает мохнатый и звериный человек.
Мы чуждых стран чужое наслоенье,
Мы запада владыки и князья.
Зачем родились мы в стране звериной крови,
Где у людей в глазах огромная заря.
Я не люблю зарю. Предпочитаю свист и бурю,
Осенний свист и безнадежный свист.
Пусть Вифлеем стучит и воет: «Жизни новой!»
Я волнами языческими полн.
Косым углом приподнятые плечи,
На черепе потухшее лицо:
Плывет Орфей – прообраз мой далекий
Среди долин, что тают на заре.
Даны мне гулким медным Аполлоном
Железные и воля и глаза.
И вот я волком рыщу в чистом поле,
И вот овцой бреду по городам.
В сухой дремоте Оптинская пустынь.
Нектарий входит в монастырский сад.
Рябое солнце. Воздух вишней пахнет.
Художники Распятому кадят.
Была Россия – церкви и погосты,
Квадратные сухие терема.
И человек умолк, и берег финский хлещет,
Губернская качается луна.
Я звезды не люблю. Люблю глухие домы
И площади, червонные, как ночь.
Не погребен. Не для меня колокола хрипели
И языками колотили ночь.
Я знаю, остров я среди кумачной бури
Венеры, муз и вечного огня.
Я крепок, не сломать меня мятежной буре, —
Еще сады в моих глазах звенят.
Но, человек, твое дороже тело
Моей червонномраморной груди
И глаз моих с каймою из лазури,
И ног моих, где моря шум умолк.
Я променял весь дивный гул природы…
Я променял весь дивный гул природы
На звук трехмерный, бережный, простой.
Но помнит он далекие народы
И треск травы и волн далекий бой.
Люблю слова: предчувствую паденье,
Забвенье смысла их средь торжищ городских.
Так звуки У и О приемлют гул трамвая
И завыванье проволок тугих.
И ты, потомок мой, под стук сухой вокзала,
Под веткой рельс, ты вспомнишь обо мне.
В последний раз звук А напомнит шум дубравы,
В последний раз звук Е напомнит треск травы.
Июль 1922
Среди ночных блистательных блужданий…
Человек
Среди ночных блистательных блужданий,
Под треск травы, под говор городской,
Я потерял морей небесных пламень,
Я потерял лирическую кровь.
Когда заря свои подъемлет перья,
Я у ворот безлиственно стою,
Мой лучезарный лик в чужие плечи канул,
В крови случайных женщин изошел.
Хор
Вновь повернет заря. В своей скалистой ночи
Орфей раздумью предан и судьбе,
И звуки ластятся, охватывают плечи
И к лире тянутся, но не находят струн,
Человек
Не медномраморным, но жалким человеком
Стою на мраморной просторной вышине.
А ветр шумит, непойманные звуки
Обратно падают на золотую ночь.
Мой милый друг, сладка твоя постель и плечи.
Что мне восторгов райские пути?
Но помню я весь холод зимней ночи
И храм большой над синей крутизной.
Хор
Обыкновенный час дарован человеку.
Так отрекаемся, едва пропел петух,
От мрамора, от золота, от хвои
И входим в жизнь, откуда выход – смерть.
Август 1922
Вы римскою державной колесницей…
Вы римскою державной колесницей
Несетесь вскачь. Над Вами день клубится,
А под ногами зимняя заря.
И страшно под зрачками римской знати
Найти хлыстовский дух, московскую тоску
Царицы корабля.
Но помните Вы душный Геркуланум,
Везувия гудение и взлет,
И ночь, и пепел.
Кружево кружений. Россия – Рим.
Август 1922
Шумит Родос, не спит Александрия…
Шумит Родос, не спит Александрия,
И в черноте распущенных зрачков
Встает звезда, и легкий запах море
Горстями кинуло. И снова рыжий день.
Поэт, ты должен быть изменчивым, как море, —
Не заковать его в ущелья гулких скал.
Мне вручены цветущий финский берег
И римский воздух северной страны.
Умолк. Играй, игрок, ведь все равно кладбище.
Задул ночник, спокойно лег в постель.
Мне никогда и ничего не снится.
Зеленый стол и мертвые кресты.
Ноябрь 1922