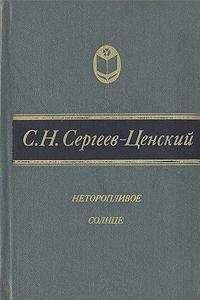— Так и опять я должен был, значит, поставить деревянную ригу и под соломой? То уж пусть они ставят… Меня бы не учили, что ставить, — сказал Антон Антоныч. — Та у меня еще и катух свиной три года тому назад горел, — и тож без меня горел, как сказать!
— Напрасно, что без тебя, — заметил Веденяпин и добавил: — Ты что же чаю не пьешь? Пей.
Но Антон Антоныч ходил по комнате и на каждом повороте, когда лицо Веденяпина выкруглялось перед ним все, оторопело глядел на эти взлизы на лбу, глаза, запрятанные в пожившие веки, и толстые губы.
Как будто ничего в нем не было похожего на того из Анненгофа, и в то же время весь он был тот.
И когда Антон Антоныч увидел это, он нагнулся к самому уху Веденяпина и тихо сказал, запинаясь:
— Это не ты ли, дружище, и поджег мою солому, а?
Он обхватил его за шею левой рукою, а правую вытянул вдоль его правой руки, захватив кисть, и виском своим пришелся в его висок, и слушал, слушал всем, чем приготовился слушать с вечера, и казалось уже, что некуда больше идти и негде больше искать, — только здесь.
Но Веденяпин размашисто поднялся, вытянул шею, показал породистый, еще не заплывший жиром кадык и изумленным барским басовым голосом, голосом бывшего ротмистра, спросил медленно:
— Ты… с ума сошел?
И вновь, как прежде когда-то, стояли они друг перед другом, и под тяжелые веки Веденяпина вползал ищущий взгляд горячих серых глаз Антона Антоныча. Но человек ли не тайна? Только что поверил в то, что нашел, и вот уже опять не верил.
Так и сказал:
— Конечно ж, не ты! Конечно ж, нет! Или ты против меня злобу имеешь? Так за что?.. Сказал бы мне, чтобы и я знал. Живши, как сказать, душа в душу, как братья, сколько лет, — как же можно, боже ж мой, как можно!..
Смотрел на него, виновато улыбаясь, и ласково, мягко гладил его круглое широкое плечо, выпиравшее из старого кителя.
А Веденяпин засмеялся вдруг, дрогнул одубелыми щеками.
— Плохой из тебя следователь, совсем плохой! — и, остепенясь, сказал: — Конечно, из мужиков кто-нибудь поджег.
— Да ведь а я-то что ж? И я то ж самое говорю, — поспешно согласился Антон Антоныч, но посмотрел на руки его, скрещенные за спиною, и добавил: — Зачем ты тогда приехал?.. Нет, скажи, да по совести скажи, зачем ты тогда приехал?
— Как зачем? — улыбаясь, спросил Веденяпин.
— Или я не мог застраховать свою солому безо всякой твоей помощи, как сказать? Или мне нужно было ее страховать, бодай она вся сгорела бы дотла, до основания! Что ж ты встрял в это дело? Зачем?
— Поезжай-ка ты спать, — сказал Веденяпин, — а вот, когда проспишься…
— Нет, не спать — нет! — закричал Антон Антоныч, закусив губы. — То я знаю, когда мне нужно спать, когда не нужно! То я оч-чень хорошо знаю, когда мне что делать, злодей! А дабы ты ни-ког-да не смел и носу своего показывать в моем доме!.. И носу твоего абы никто, ни одна собака, не видал, слышишь?.. И нно-о-суу!.. Вот! Кончено! — и вышел Антон Антоныч.
Когда же ехал он полями, то думал не о Веденяпине, а о кузнеце Молочном, у которого нашли в навозе стан новых, украденных в усадьбе колес, и о сотском Журавле, который недавно попался ему самому на порубке в дубовой роще… не они ли теперь со зла подожгли солому?
А около дома ждал уже его щеголеватый урядник Самоквасов: сидел на ступеньках крыльца с кожаной сумкой в руке и вычерчивал около на земле острые углы ножнами шашки.
И вдали возле тока зачернел широкий Голев в своем вздутом муаровом картузе, а на полшага сзади и сбоку его — Митрофан, без шапки: что-то показывал и объяснял, почтительно поводя руками.
В окно смутно было видно Елену Ивановну с измятым белым платком около лица.
Еще сидя на лошади, на крутошеем караковом жеребце Забое, Антон Антоныч крикнул уряднику, перегнувшись:
— Этто что такое? Зачем?
Самоквасов поднялся, по-офицерски приложил к козырьку руку, но с голосом сразу справиться не успел, — отрубил по-солдатски:
— По случаю пожара вашего, Антон Антоныч… И вот тряпки найденной… — Улыбнулся искательно, добавил тише: — Для вашего спокойствия… Бельецо ваше хотел посмотреть.
Сказал — и стоял, посвечивая новыми оранжевыми жгутами на плечах, не спуская с лица нерешительной улыбки.
— Что-о-о? Обыск? — изумился Антон Антоныч.
— Не то что обыск, а для удостоверения только… — И опять Самоквасов приложил руку к козырьку против переносья, улыбнулся ободряюще и добавил: — Чтобы в протокол занести, что вот, стало быть, подозрения насчет вашего белья именно основания ни малейшего, то есть почвы…
— Во-он отсюда! — неистово закричал Антон Антоныч.
— Нет, зачем же? — оторопел урядник и добавил, оправившись: — За это вы ответите… Я по приказанию пристава, а не сам… По долгу службы…
— Вон! Сейчас же вон! — кричал Антон Антоныч и направил на него лошадь.
Забой прижал голову к выпуклой груди, выгнул колесом шею и шаг за шагом, бочась и раздувая красные ноздри, наступал на Самоквасова, как сердитый лебедь, и когда отскочил и, повернувшись, пошел из усадьбы Самоквасов, что-то говоря о понятых, Забой довольно закачал головою и победно оглянулся по сторонам.
Елена Ивановна вышла на крыльцо; в растворенные окна глядели только что вставшие Кука и Сёзя; вдалеке из-за стогов соломы выглянули Голев с Митрофаном, и видно было, как мимо них шел Самоквасов и, остановившись, говорил с ними долго, и Голев, слушая, укоризненно качал головою. Потом обернулся Голев, точно в первый раз увидел Антона Антоныча, снял картуз, как платочком, радостно замахал им в воздухе и поплыл к дому.
Здесь за чаем, колыхаясь весь и кивая, он участливо слушал все, о чем говорил Антон Антоныч, и со всем был согласен, а когда вторично пришел Самоквасов с понятыми, среди которых был и сотский Журавель, он первый сказал:
— Ничего не поделаешь с этим — власть!.. Всех нас она пригнетает… Надо пустить.
И Елена Ивановна впустила урядника и сама отворила ему комод с бельем.
Антон Антоныч ушел в кабинет, хлопнув дверью. Без него Самоквасов вынул из сумки и показал Елене Ивановне тряпку, которую нашли перед пожаром: это был рукав рубахи Антона Антоныча.
Елена Ивановна только всплеснула испуганно руками, но Кука сказал, по-отцовски откачнув голову:
— Ничего не значит, — пусть мама не ахает: тряпок наших много валяется на дворе, кто-нибудь подобрал эту — и только.
— Конечно, иначе и быть не может, — ободряюще улыбнулся Самоквасов. — Так мы и внесем в протокол… Хотя, признаться сказать, я уж искал утром: тряпок действительно очень даже много, разных, а такой нет.
Потом, когда Антона Антоныча вызвали к следователю, тот — желчный, сухопарый, с узенькой, смешною, но не смеющейся головою, все ежился, морщился, тер виски, наконец, попросил его говорить короче, яснее, не кричать и не слишком сильно размахивать руками.
Антон Антоныч вспыхнул и посоветовал следователю полечиться моционом, кислым молоком и сельским воздухом, «абы быть терпеливей и спокойнее».
Совет этот следователь записал отдельно.
X
Тишина. Октябрь. Анненгоф.
Беззвучно падали иглы с елей и сосен, устилали землю мягко, как церковь коврами. В синих парных туманах таяли колонны стволов. Небу зажгли зеленые свечи сосны, ели — земле, и вверх и вниз курили смолою. Разбежались около усадьбы ограды из подстриженного бобриком боярышника — подцветили зеленое вишнево-красным; важно прошлись кое-где старые липы аллеями вдоль дорог, — дали влажные серые полосы. Столетние рябины расширились во все стороны круглыми кронами неумеренно густо, как старые цыганки, обвесились червонными монистами никому не нужных ягод. Еще достаивали в садах на мызах зимние яблоки, зеленые, как мертвецы, твердые, без запаха и вкуса, среди редких багровых листьев, и листья ждали уже малейшего ветра, чтобы оторваться и упасть, но ветра не было. И березы реяли в тумане, голые, нежные, дымчато-кружевные.
В большом баронском доме комнаты были высокие, торжественно большие, точно нарочно устроенные для гостей, стены холодные, гладкие, разрисованные масляной краской, камины вычурно отделанные цветными изразцами; двери — под дуб.
В этом доме, как две птицы весною, долго искали себе удобного места Елена Ивановна и Антон Антоныч. Сперва поселились в верхнем этаже, откуда из резных окон видны были леса, робкие поля мызников и вновь леса кругом. Но вверху все казалось как-то неуютно, слишком светло и холодно почему-то, хотя и топили по-лесному много. Перебрались вниз, ближе к земле, в левый угол дома, против конюшен и сенного амбара; но тут дымили печи, и нельзя было найти поблизости печника, чтобы их поправить, и тоже было как-то неудобно, пусто. Потом перешли в правый угол, где комнаты были меньше, натащили сюда много мягкой мебели, чтобы сделать их еще меньше, а на окна повесили свои старые занавески — синие с белыми лилиями — и пришпилили их так, точно бурлила вода по крупным камням.