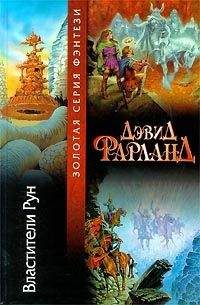- Потрудитесь, пожалуйста, - обратился он наконец к Экзархатову, написать к завтрему ответ на это. Там спрашивают, на каком основании князь арестован и теперь производится о нем следствие без депутата со стороны дворянства. Пишите, что полицейская власть всякое лицо, совершившее уголовное преступление, имеет право одна, сама собой, арестовать, потому что, пока бы она стала собирать депутатов, у ней все преступники разбежались бы. Кажется, это ясно и понятно? А что при допросах нет депутата, так нигде и никаким законом не вменено следователю в обязанность спрашивать грамотных дворян при каких бы то ни было заступниках, и мне для этого не выдумывать новых постановлений. Насчет откупа отвечайте тоже, что делал с него сбор в пользу города и нахожу это с своей стороны совершенно законным, потому что хоть сотую часть возвращаю обществу из огромных барышей, которые получает откупщик, - так и пишите этими самыми словами.
- Чтоб не оскорбились за выражения... - заметил было Экзархатов.
- А я не оскорблен? Они меня не оскорбили, когда я помыслом не считаю себя виновным в службе? - воскликнул губернатор, хватая себя за голову и потом, с заметным усилием приняв спокойный вид, снова заговорил: - На вопрос о вступительной речи моей пропишите ее всю целиком, все, что припомните, от слова до слова, как и о какого рода взяточниках я говорил; а если что забыли, я сам дополню и добавлю: у меня все на памяти. Я говорил тогда не зря. Ну, теперь, значит, до свиданья... Ступайте, займитесь этим.
Экзархатов, потупив голову, вышел.
- Скажи, пожалуйста, отчего это и откуда пошли все эти неприятности тебе? Ты прежде так же служил и действовал, но тебя еще повышали, а тут вдруг...
Калинович в упор и насмешливо поглядел на нее.
- За то, что я не имел счастия угодить моей супруге Полине Александровне. Ха, ха, ха! И мне уж, конечно, не тягаться с ней. У меня вон всего в шкатулке пятьдесят тысяч, которые мне заплатили за женитьбу и которыми я не рискну, потому что они все равно что кровью моей добыты и теперь у меня остались последние; а у ней, благодаря творцу небесному, все-таки еще тысяча душ с сотнями тысяч денег. Мне с ней никак не бороться.
- Говорят, с ней Медиокритский поехал - это зачем? - спросила Настенька.
- Да, воришка Медиокритский... Он теперь главный ее поверенный и дает почти каждую неделю у Дюссо обеды разным господам, чтоб как-нибудь повредить мне и поправить дело князя, и который, между прочим, пишет сюда своему мерзавцу родственнику, бывшему правителю канцелярии, что если им бог поможет меня уничтожить, так он, наверное, приедет сюда старшим советником губернского правления!
Заключив последние слова, губернатор снова захохотал.
- Как же они могут тебя уничтожить? - спросила Настенька.
Калинович пожал плечами.
- Я полагаю, - начал он ироническим тоном, - что помня мои услуги, на первый раз ограничатся тем, что запрячут меня в какую-нибудь маленькую недворянскую губернию с приличным наставлением, чтоб я служебно и нравственно исправился, ибо, как мне писали оттуда, там возмущены не только действиями моими как чиновника, но и как человека, имеющего беспокойный характер и совершенно лишенного гуманных убеждений... Ха, ха, ха!
- Но что ж тебе так беспокоиться? Пускай посылают! Нам с тобой везде будет весело! - возразила Настенька.
Калинович глубоко вздохнул{461}.
- Нет! - начал он. - Это обидно, очень обидно! Обидно за себя, когда знаешь, что в десять лет положил на службу и душу и сердце... Наконец, грустно за самое дело, которое, что б ни говорили, мало подвигается к лучшему.
Вскоре после этой маленькой сцены и в обществе стали догадываться, что ветер как-то подул с другой стороны. Началось это с того, что по делу князя была вдруг прислана из Петербурга особая комиссия, под председательством статского советника Опенкина. Надобно было не иметь никакого соображения, чтоб не видеть в этом случае щелчка губернатору, тем более что сама комиссия открыла свои действия с того, что сейчас же сделала распоряжение о выпуске князя Ивана из острога на поруки его родной дочери. Обстоятельству этому были очень рады в обществе, и все, кто только не очень зависел по службе от губернатора, поехали на другой же день к князю поздравить его. Однако он был так осторожен, что сказался больным и благодарил всех через дочь за участие, но никого не принял. По делу его между тем со старого почтмейстера снята была подписка о невыезде его из города, и он уже отправился на место своего служения. Дьячок-резчик был тоже выпущен как человек совершенно ни в чем не уличенный. Даже крепостной человек князя и кантонист, - как сказывал писец губернского правления, командированный для переписки в комиссию, - даже эти лица теперь содержались один за разноречивые показания, а другой за преступления, совершенные им в других случаях; словом, всему делу было дано, видимо, другое направление!.. Один из членов комиссии, молодой еще человек, прекрасно образованный и, вероятно, пооткровеннее других, даже явно об этом проболтался.
- Ваш губернатор, господа, вообще странный человек; но в деле князя он поступал решительно как сумасшедший! - сказал он по крайней мере при сотне лиц, которые в ответ ему двусмысленно улыбнулись, но ничего не возразили, и один только толстый магистр, сидевший совершенно у другого столика, прислушавшись к словам молодого человека, довольно дерзко обратился к нему и спросил:
- А почему бы это губернатор действовал, как сумасшедший?
Молодой человек пожал плечами и начал ему пунктуально доказывать.
- Во-первых, - говорил он, - губернатор посадил дворянина в острог, в то время как еще не было совершено преступление.
- Как не было совершено преступление? - возразил с упорством магистр. Оно совершено в то время, когда князь сделал фальшивое свидетельство, - вот когда оно совершено!
- Ничуть не бывало, - продолжал молодой человек прежним деловым тоном, - преступление в этом деле тогда бы можно считать совершенным, когда бы сам подряд, обеспеченный этим свидетельством, лопнул: казна, значит, должна была бы дальнейшие работы производить на счет залогов, которых в действительности не оказалось, и тогда в самом деле существовало бы фактическое зло, а потому существовало бы и преступление.
- А если б он, с божией помощью, на это фальшивое свидетельство взял подряд и благополучно его кончил, тогда бы ничего? - возразил магистр.
- Я думаю, что ничего! - проговорил молодой человек, несколько сконфуженный этим замечанием.
- Я сам тоже думаю, что ничего! - сказал магистр с явной уж насмешкой.
- С чем вас и поздравляю, - отвечал ему тоже с насмешкой молодой человек и тотчас обратился к другим своим слушателям. - Кроме уж этих теоретических соображений, - продолжал он, - смотрите, что самые факты показывают. Губернатор говорит, что князем Раменским составлено фальшивое свидетельство. Князь говорит, что им представляем был акт не фальшивый, а на именье существующее, энского почтмейстера, которому действительно и выдано было из гражданской палаты за год перед тем свидетельство. Строительная комиссия отозвалась, что какого рода в рассмотрении ее находилось свидетельство, она, за давнопрошедшим временем, не запомнит. В прошении князя подпись его руки половина секретарей признала, а половина нет. Значит, сколько тут шансов направо и налево?
- Поэтому фальшивое свидетельство составил сам губернатор? - возразил ему магистр.
- Я ничего не знаю, - ответил уклончиво молодой человек. - Вы знаете, следователь не имеет даже право делать заключения в деле, чтоб не спутать и не связать судебного места. Я говорю только факты.
- Только факты! - повторил, глядя ему в лицо, магистр. - О-то Шемякин суд! - произнес он почти вслух и, неуклюже вышедши из-за стола, ушел в бильярдную.
- Заступник! - повторил ему вслед чиновник.
Несколько голов легким кивком подтвердили его мысль. Разговор этот на другой же день разнесся, конечно, по всему городу.
- Плохо будет губернатору, плохо! - решили почти единогласно все губернские дипломаты, и только один Папушкин, не любивший скоро отступать от своих убеждений, возражал на это: "Ничего не плохо - осилит!"
- Чего осилит? Сам уж струсил. Недели две, говорят, ни по канцелярии, ни по губернскому правлению ничего не делает - струсил, - доказывали ему.
- Ничего не струсил! - стоял на своем Папушкин, и последние слова его подтвердились в непродолжительном времени.
Случился пожар в казенных соляных магазинах, которые, как водится, богу ведомо, отчего загорелись. Калинович прискакал на пожар первый, верхом на лошади, без седла, распек потом полицеймейстера, поклялся брандмейстера сделать солдатом и начал сам распоряжаться. Плоховатая пожарная команда под его грозными распоряжениями начала обнаруживать рьяную храбрость и молодечество, и в то время, как он, запыленный, закоптелый, в саже, облитый водою, стоял почти перед самым пламенем, так что лошадь его беспрестанно фыркала и пятилась назад, - в это самое время с обеда председателя казенной палаты, а потому порядком навеселе, приехал тоже на пожар статский советник Опенкин. Взглянув сквозь очки на страшную сцену разрушения, он тоже начал кричать на частного пристава и приказывать команде действовать трубами не на ту часть стены, на которую она действовала. Услышав это, Калинович вдруг повернул к нему лошадь и громким голосом проговорил: