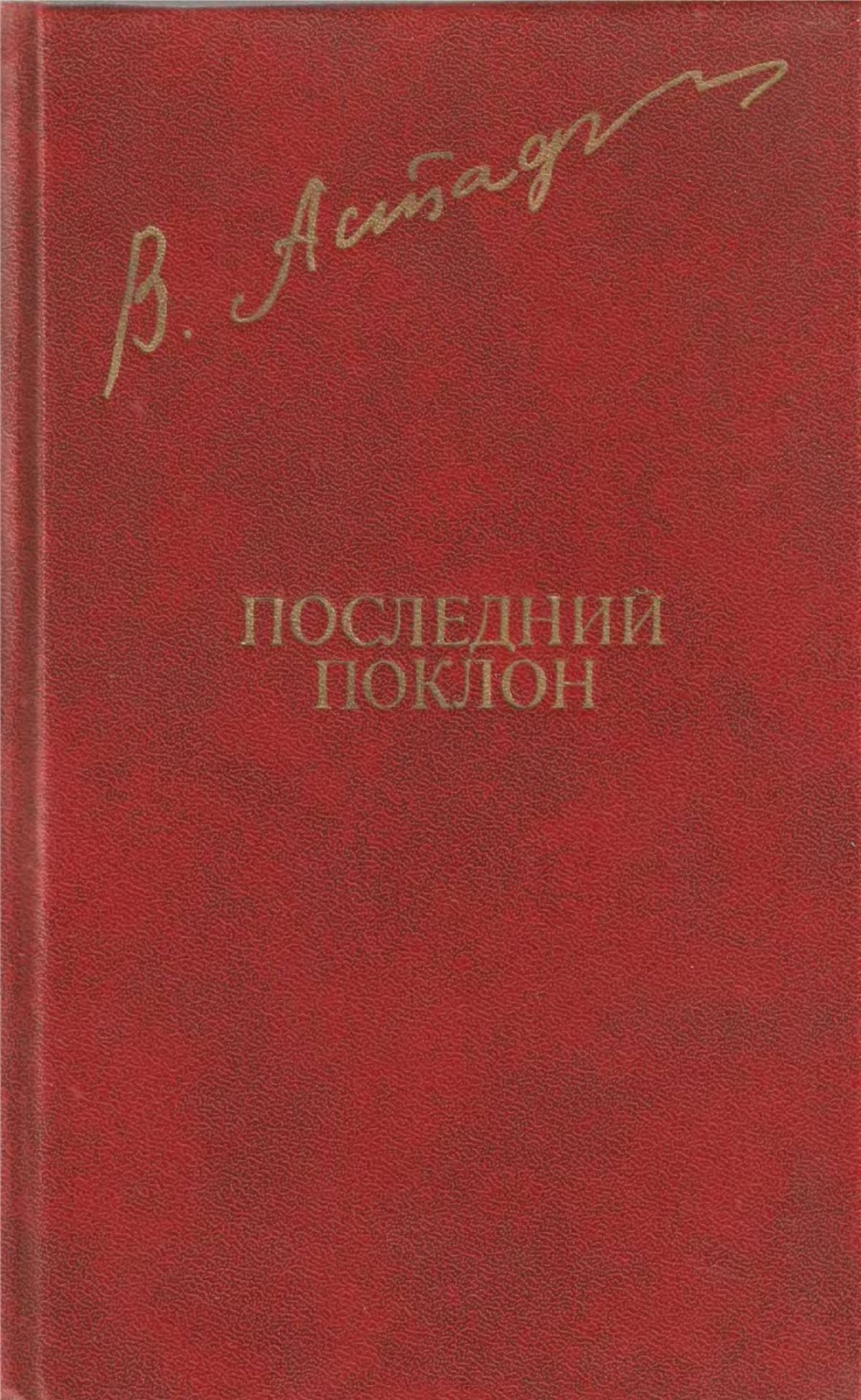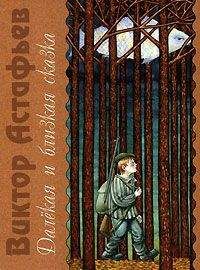обтаявшее сверху барачное окно.
Все заняты собою. У всех свои заботы. И у меня тоже. Главная из них: чего завтра пожрать?
Дома ждал меня гость, мой одноклассник и друг, Тишка Шломов, личность тоже выдающаяся, в дружбе до гроба верная и до того преданная, что со мною на второй, если потребуется, и на третий год останется в одном и том же классе.
Тишка дал мне пирожок с капустой и записку классной руководительницы моим родителям. Она была обеспокоена долгим отсутствием вверенного ей ученика, хотела знать — отлынивает ли учащийся, болен ли, и вообще она всегда старается лично знакомиться с уважаемыми родителями и со всеми уже почти знакома, кроме моих.
Плюнув на неразборчивую роспись учительницы, я бросил ее в огонь, чем привел Тишку в бурное восхищение. Вдвоем мы быстро наготовили дров, нахально уперли сутунок опять же от театральной кочегарки, и Тишка засиделся у меня допоздна, сообщив напоследок, что видел мою мачеху возле домов, строящихся на улице Кирова.
Слабо теплившаяся надежда погнала меня на улицу Кирова, и там среди четырех из брусьев складываемых двухэтажных домов, в жарко натопленной сторожке, наполненной запахами стружек и выкипевшей из досок живицы, я отыскал мачеху и Кольку.
Малый метался на топчане, сколоченном из новых, свежепахнущих досок.
— Заболел наш Коле-енька, заболе-эл! — запричитала мачеха, схватившись за голову. Голос у нее был совсем уж лесной, дикий, вся она какая-то обвислая, сырая, губы мокры, раскосмачена, будто шаман. «Да она же выпившая, может, и пьяная!» — резануло меня догадкой, и я со страхом заметил на столе, из опять же бзлых, пахнущих досок сооруженном, уже нечистом, израненном ножиками, недопитую бутылку. На газете ржавели растерзанные иваси с выпущенными молоками, кусок хлеба, похожий на булыжину. Хлеб почему-то ломали, не пользуясь ножом, воткнутым в щель стола. Пили тут рабочие, строители пили, совсем недавно, в обед пили.
— Ну, как ты? Не ушел к нашим-то? — на слове «нашим» мачеха сделала злой упор и затрясла спутанными космами: —Не нужны мы никому! Ни нашим, ни вашим… Ни-ко-му! Знать, бороной по нашей судьбе кто-то прое-хал… Допей вон вино, лучше станет, тепле-е…
Мачеха хоть и заполошная, хоть и с пьяницей жила, но к вину не привычная, ее развозило в жаре. Ночь, наверное, не спала — сторож все-таки. Может, много ночей не спала — ребенок хворый на руках, другой наружу просится; ни кола ни двора; муж из больницы табаку заказывает; где-то парнишка брошен, пусть не родной, но все-таки живой человек! Что, если мачеха вздумает допить остатки спирта? Ей ведь все равно — отчаялась. Сгорит! Умрет в судорогах. Что с Колькой тогда будет?.. Я схватил бутылку, задержал дыхание, остановил всякое движение в теле и в широко растворенный рот вылил спирт — так пьют настоящие умельцы, слышал я, так пьют ходовые мужики, покорители морей, воздушных, арктических пространств — и словно подавился горячей картошкой — ни взад, ни вперед ничего не подавалось и не пробивалось, прожигало грудь комком пламени, губы понапрасну схватывали воздух. Мачеха изо всей силы колотила меня кулаком по спине:
— Ну!.. Н-ну-у-у! Н-ну-у-у-у! Ой, тошно мне! Закатился парнишка-то!.. Л-лю-у-уде-э-э-э!..
Наконец разжалось, схватило воздуху обожженное горло; остановившееся сердце пошло своим ходом, и я смог перевести занявшийся дух. Убедившись, что я ожил, отошел, мачеха упала головой на край топчана, подгребая к себе Кольку:
— Зарублю! Если Колька помрет, отсеку башку твоему отцу!..
Я толкнул задом дверь, выпятился из сторожки. Следом несся сорванный голос человека, давно и безнадежно заблудившегося. Я зажал драными рукавицами уши, побежал куда глаза глядят. На какой-то улице, возле каких-то подпрыгивающих бараков, катавшиеся с крыши сарая или с чего-то высокого и тоже подпрыгивающего ребятишки кричали: «Пьяный! Пьяный! Оголец пьяный!..» Я схватил палку, погнался за ребятней, запнулся, упал, ободрал в кровь колени. Какие-то дядьки и тетки поймали меня, ругались, хотели бить, но меня начало рвать, и они брезгливо отступились.
Неизвестной мне дорогой — пьяных же черт водит! — я проник на конный двор, располагавшийся в соседстве с парикмахерской, попал в стойла к рабочим коням, если б к жеребцу — зашиб бы он меня. Обнимая смиренную конягу за шею, истертую хомутом, я чего-то ей объяснял, целовал в окуржавелую морду. У коняги подрагивали широкие ноздри, она деликатно отворачивалась от меня, как девушка в автобусе от назойливого пропойцы. В печальном глазу коняги стоял Молчаливый мне укор. И по сю пору, когда я гляжу на рабочую конягу, мне вспоминается покойный дедушка Илья Евграфович, и тогда тоже, видать, вспомнился. «Эх, дедушка, дедушка! Царство тебе небесное! — запричитал я. — Ты не бросил бы меня…»
Выплакавшись, я, должно быть, поспал в стойле коняги, потому что очнулся в соображении, нагреб из кормушки овса в карман и потрепал извинительно конягу по гриве:
— Голодуха — не тетка! Тебе еще дадут.
Холодина в парикмахерской была такая же, что и на улице.
Мышей не слышно и не видно — норками ушли на конный двор, там сытнее и теплее. Я разживил печку, подгреб в кучу грязные, облезлые шкуры, закутался в половики, жарил овес на вьюшке и выгрызал из шелухи зерна. Наловчился я в этом деле. «Беда вымучит и выучит», — говаривала бабушка Катерина Петровна. Жива ли она? Надавливая зубами на зерно, я посылал ядрышки в рот и хрумстел, думая о бабушке и о разных разностях. «Овеяно зернышко попало волку в горлышко», — вспомнилась бабушкина присказка, только ему, волчьему-то горлышку, все нипочем, а мне язык накололо. Я пробил в заледенелом ведре дырку, попил через край воды, и меня снова разморило у горячо полыхающей печки, в пьяную жалость и слезу повело. «В ледовитом океане, — затянул я только что появившуюся песню, — против северных мерей, воевал Иван Папанин двести семьдесят ночей. Стерегли четыре друга красный флаг родной земли до поры, покуда с юга ледоколы не пришли…»
Пел и плакал — жалко было Ивана Папанина.
В ту ночь я едва не замерз. В печке погасло. Со шкур я скатился, и только подушка, угодившая мне под бок, спасла меня от тяжелой простуды, может, и от смерти. Малую простуду — кашель, бивший меня, вечный уже насморк я болезнями не считал.
Боль в голове, одиночество ли, особенно тягостное с похмелья, надежда ли отогреться и чего-то пожрать стронули меня с места, потащили в тринадцатую школу. Располагалась наша отстающая школа в бывшем помещении горсовета. Наверху, на втором этаже школы, все еще оставались разные службы, для которых достраивалось отдельное помещение. Службам этим, особенно сотрудникам