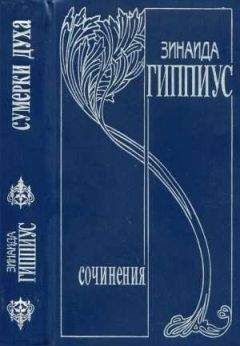Он хотел, чтобы спаслась и она, как он. Он хотел единения, которого не должно ждать не за гранью жизни. Но один из двух погибнет. И единение стало полным и светлым лишь в его одинокой и светлой душе.
Ночной ветер бессильно рыдал и пел за окном. Белый круг лежал на столе, на листах бумаги с еще не видными, не рожденными, но уже существующими где-то словами. Снизу, скользя по стенам, поднимался и наполнял комнату невинный запах белых цветов земли, неразделимо и неуловимо слитый с прозрачным благоуханьем ладана.
1899
Собрание стихов. 1889–1903*
Стихи мои я в первый раз выпускаю отдельной книгой, и мне почти жаль, что я это делаю. Не потому, что их написано за пятнадцать лет слишком мало для книги, и не потому, что считаю мою книгу хуже всех, без счета издающихся, стихотворных сборников: нет, я думаю – она и хуже, и лучше многих; но мне жаль создавать нечто совершенно бесцельное и никому не нужное. Собрание, книга стихов в данное время – есть самая бесцельная, ненужная вещь. Я не хочу этим сказать, что стихи не нужны. Напротив, я утверждаю, что стихи нужны, даже необходимы, естественны и вечны. Было время, когда всем казались нужными целые книги стихов, когда они читались сплошь, понимались и принимались. Время это – прошлое, не наше. Современному читателю не нужен, бесполезен сборник современных стихов. Это и не может быть иначе, и вина (если тут есть вина) лежит столько же на читателях, сколько на авторах. Ведь и те и другие – одинаковые дети своего времени. Ему подчиняясь, современный поэт утончился и обособился, отделился, как человек (и, естественно, как стихотворец), от человека, рядом стоящего, ушел даже не в индивидуализм, а в тесную субъективность. Именно обособился, перенес центр тяжести в свою собственность, и поет о ней, потому что в ней видит свой путь, святое своей души. Это может казаться печальным, но тут нет ничего безнадежного или мелкого; и опечаленных пусть утешает мысль, что это – современное, а все «современное» – временно. Неизбежная одинокая дорога, быть может, ведет нас, и в области поэзии, к новому, еще более полному, общению. Но возвращусь к тому, что есть.
Я считаю естественной и необходимейшей потребностью человеческой природы – молитву. Каждый человек непременно молится или стремится к молитве, – все равно, сознает он это или нет, все равно, в какую форму выливается у него молитва и к какому Богу обращена. Форма зависит от способностей и наклонностей каждого. Поэзия вообще, стихосложение в частности, словесная музыка – это лишь одна из форм, которую принимает в нашей душе молитва. Поэзия, как определил ее Баратынский, – «есть полное ощущение данной минуты». Быть может, это определение слишком обще для молитвы, – но как оно близко к ней!
И вот мы, современные стихописатели, покорные вечному закону человеческой природы, молимся – в стихах, как умеем, то неудачно, то удачно, но всегда берем наше «свое», наш центр, все наше данное «я» в данную минуту (таковы законы молитвы); – виноваты ли мы, что каждое «я» теперь сделалось особенным, одиноким, оторванным от другого «я», и потому непонятным ему и ненужным? Нам, каждому, страстно нужна, понятна и дорога наша молитва, нужно наше стихотворение, – отражение мгновенной полноты нашего сердца. Но другому, у которого заветное «свое» – другое, непонятна и чужда моя молитва. Сознание одиночества еще более отрывает людей друг от друга, обособляет, заставляет замыкаться душу. Мы стыдимся своих молитв и, зная, что все равно не сольемся в них ни с кем, – говорим, слагаем их уже вполголоса, про себя, намеками, ясными лишь для себя.
Некоторые из нас, стыдясь и печалясь, совсем оставляют стихотворную форму, как слишком явно молитвенную, и облекают иной, сложной и туманной, плотью свое божественное устремление.
Если есть где-нибудь один, кто поймет нашу молитву, – он поймет ее и сквозь печаль тумана. Но есть ли он? Есть ли чудо?
Я считаю мои стихи (независимо от того – бездарны они или талантливы, – не мне судить, да и это к делу не относится) – очень современными в данном значении слова, то есть очень обособленными, своеструнными, в своеструнности однообразными, а потому для других ненужными. Соединение же их в одной книге – должно казаться просто утомительным. Книга стихотворений – даже и не вполне «обособленного» автора – чаще всего утомительна. Ведь все-таки каждому стихотворению соответствует полное ощущение автором данной минуты; оно вылилось – стихотворение кончилось; следующее – следующая минута, – уже иная; они разделены временем, жизнью; а читатель перебегает тут же с одной страницы на другую, и смены, скользя, только утомляют глаза и слух.
Но, повторяю, было время, когда стихи принимались и понимались всеми, не утомляли, не раздражали, были нужны всем. И не оттого, что прежние поэты писали прекрасные стихи, а теперешние пишут плохие; что толкуют о вырождении стиха, об исчезновении поэтических талантов! Исчезли не таланты, не стихи, – исчезла возможность общения именно в молитве, общность молитвенного порыва. Я утверждаю, что стремление к ритму, к музыке речи, к воплощению внутреннего трепета в правильные переливы слов – всегда связано с устремлением молитвенным, религиозным, потусторонним, – с самым таинственным, глубоким ядром человеческой души, и что все стихи всех действительно поэтов – молитвы. Молитвенны стихи и прежних наших стихотворцев, – тех, в свое время принятых, понятных. Был и будет Пушкин; он принят навсегда, он был и будет нужен; его песни, он сам – как солнце; он вечен, всепроникающ, но, – как солнце, – неподвижен. То, что есть молитвы Пушкина, – не утоляет нашего порыва, не уничтожает нашего искания: он – не цель, не конечный предел, а лишь некоторое условие существования этого порыва, как солнце не жизнь, а только одно из условий жизни. Пушкин – вне времени, зато он и вне нашего пути, исторического и быстрого.
Но вот Некрасов, поэт во времени, любимый и всем в свое время нужный. И его «гражданские» песни – были молитвами. Но молитвы эти оказались у него общими с его современниками. Дрожали общие струны, пелись хвалы общему Богу. Каковы они были – все равно. Они замолкли и уже не воскреснут, как молит-вословия. Но они звучали широко и были нужны, они были – общими. Теперь – у каждого из нас отдельный, сознанный или несознанный, – но свой Бог, а потому так грустны, беспомощны и бездейственны наши одинокие, лишь нам и дорогие, молитвы.
Есть и в прошлом один, нам подобный, «ненужный всем» поэт: Тютчев. Любят ли его «все», понятны ли «всем» его странные, лунные гимны, которых он сам стыдился перед другими, записывал на клочках, о которых избегал говорить? Каким бесцельным казался и кажется он! Если мы, редкие, немногие из теперешних, почуяли близость его и его Бога, сливаемся сердцем с его славословиями, – то ведь нас так мало! И даже для нас он, Тютчев, все-таки – из прошлого, и его Бог не всегда, не всей полностью – наш Бог…
Я намеренно не вхожу здесь в оценку величины и малости того или другого поэта. Вопрос о силе таланта не имеет значения для тех мыслен, которые мне хотелось высказать. Я думаю, явись теперь, в наше трудное, острое время, стихотворец, по существу подобный нам, но гениальный, – и он очутился бы один на своей узкой вершине; только зубец его скалы был бы выше, – ближе к небу, – и еще менее внятным казалось бы его молитвенное пение. Пока мы не найдем общего Бога, или хоть не поймем, что стремимся все к Нему, Единственному, – до тех пор наши молитвы, – наши стихи, – живые для каждого из нас, – будут непонятны и не нужны ни для кого.
3. Гиппиус
Окно мое высоко над землею,
Высоко над землею.
Я вижу только небо с вечернею зарею,
С вечернею зарею.
И небо кажется пустым и бледным,
Таким пустым и бледным…
Оно не сжалится над сердцем бедным,
Над моим сердцем бедным.
Увы, в печали безумной я умираю,
Я умираю,
Стремлюсь к тому, чего я не знаю,
Не знаю…
И это желание не знаю откуда,
Пришло откуда,
Но сердце хочет и просит чуда,
Чуда!
О, пусть будет то, чего не бывает,
Никогда не бывает:
Мне бледное небо чудес обещает,
Оно обещает,
Но плачу без слез о неверном обете,
О неверном обете…
Мне нужно то, чего нет на свете,
Чего нет на свете.
1893
Небеса унылы и низки,
Но я знаю – дух мой высок.
Мы с тобою так странно близки,
И каждый из нас одинок.
Беспощадна моя дорога,
Она меня к смерти ведет.
Но люблю я себя, как Бога, –
Любовь мою душу спасет.
Если я на пути устану,
Начну малодушно роптать,
Если я на себя восстану
И счастья осмелюсь желать, –
Не покинь меня без возврата
В туманные, трудные дни.
Умоляю, слабого брата
Утешь, пожалей, обмани.
Мы с тобою единственно близки,
Мы оба идем на восток.
Небеса злорадны и низки,
Но я верю – дух наш высок.
1894