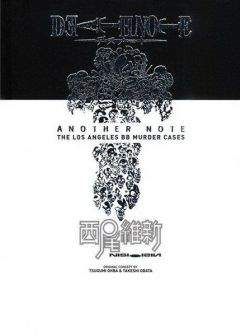Наконецъ кирія Параскева предложила мнѣ сѣсть.
— Нѣтъ, я постою, — сказалъ я и продолжалъ стоять.
Тогда она сдѣлала мнѣ нѣсколько вопросовъ одинъ за другимъ:
— Здоровъ ли твой отецъ? Здорова ли мать твоя? Имѣешь ли ты отъ нея письма? Ты въ русскомъ консульствѣ живешь? Хорошо тебѣ у консула жить? Деньги получаешь?
Я на всѣ эти вопросы отвѣчалъ утвердительно.
— Какое же ты дѣло у консула дѣлаешь, что онъ тебѣ деньги платитъ?
Я сказалъ: — Пишу, переписываю.
— Онъ очень грамотенъ, — похвалилъ меня отецъ Арсеній.
Кира Параскева все продолжала вглядываться въ меня, какъ будто сбиралась съ силами сказать мнѣ что-то важное или тяжелое; и потомъ вдругъ лицо ея покраснѣло, глаза заблистали, голова затряслась сильнѣе, и, все еще сдерживаясь, она начала такъ:
— Хорошо, значитъ, тебѣ жить у москвича этого? А развѣ онъ добрый человѣкъ? Онъ человѣкъ жесткій, злой… Не жесткій ли и не злой ли онъ человѣкъ? За что́ онъ преслѣдуетъ моего сына? Мой сынъ никому вреда не сдѣлалъ. Если Шерифъ дуренъ, для себя дуренъ… А изъ людей онъ никого никогда не обидѣлъ.
Я молчалъ въ недоумѣніи. Отецъ Арсеній замѣтилъ съ своей стороны, что я почти ребенокъ и въ эти дѣла не вхожу и про благодѣтеля своего дурно говорить не стану. Но кира Параскева не слушала его и продолжала:
— Нѣтъ! Ты скажи мнѣ, развѣ онъ хорошій человѣкъ? Развѣ человѣкъ такой благородный не долженъ быть въ своемъ словѣ твердъ… Ты знаешь ли, что́ онъ сказалъ моему сыну? Ты знаешь ли…
И она дрожа приподнималась немного съ дивана, приближаясь въ увлеченіи рѣчей своихъ ко мнѣ:
— Ты не знаешь? Ты не знаешь?..
— Почему ему знать, онъ ученикъ и дитя еще, — опять защищалъ меня отецъ Арсеній. — Пусть онъ лучше идетъ домой. Онъ ничего не знаетъ… А ты, госпожа моя, успокойся. Если можно, онъ напишетъ отцу своему все, что́ слышалъ, и пусть отецъ рѣшаетъ, какъ быть дѣлу…
— Нѣтъ! Нѣть! Стой, стой, — сказала она, — слушай. Если ты не знаешь, что́ Благовъ сказалъ моему сыну, я скажу тебѣ. Онъ сказалъ ему: «Вѣрьте мнѣ, бей-эффенди мой, что душевно я нисколько не расположенъ помогать противу васъ всѣмъ этимъ купцамъ. Вы турецкій бей, я самъ бей московскій. И я очень хорошо понимаю, какъ вамъ тяжело съ ними бороться, какъ они съ васъ проценты берутъ, и все, и все!.. А буду дѣлать только, что́ надо по закону и черезъ великую нужду!..» Слышалъ ты это? Слышалъ это? Нѣтъ, ты скажи мнѣ, сынъ мой, слышалъ ты эти слова сладкія?
Я сказалъ:
— Теперь отъ васъ слышу, кира моя…
Отецъ Арсеній улыбнулся. Кира-Параскева оскорбилась и, утихнувъ на минуту, вздохнула и сказала:
— Не вѣришь мнѣ? Какъ хочешь; это твое дѣло. А я тебѣ говорю, что это не благородно. Такія слова говорить, и двухъ недѣль не прошло, какъ и онъ, и Киркориди напали на сына моего и требуютъ продажи имѣнія его съ публичнаго торга для уплаты Исаакидесу. Исаакидесу, вору, мошеннику, подлецу этому. Шерифъ мой никому не вредилъ, никому, никогда. Пусть онъ турокъ! Пустъ! Это для его души гибель, а людямъ что́?
Голосъ ея прервался, и она начала рыдать. Я не зналъ, что́ мнѣ дѣлать. Отецъ Арсеній съ участіемъ смотрѣлъ на нее и твердилъ:
— Успокойся! Успокойся!.. Вотъ онъ напишетъ отцу. Ты напиши, Одиссей, отцу, нельзя ли подождать до его возвращенія… Успокойся, кира моя, умолкни… Смотри, чтобы здоровье твое хуже не повредилось отъ огорченія… Отецъ его скоро вернется; онъ человѣкъ хорошій…
Но кира Параскева вдругъ отерла слезы, встала съ мѣста и съ энергическимъ движеніемъ, простирая руки, начала проклинать Исаакидеса.
— Этого вора! Этого подлеца!.. Анаѳемскій часъ его рожденья… О! чтобы душа его никогда не спаслась… О! если бъ я могла привязать его къ хвосту лошадиному и разорвать его на четыре куска, и кинуть ихъ во всѣ четыре стороны. Эти куски анаѳемскіе проклятаго его тѣла…
Напрасно отецъ Арсеній старался прервать ее, напрасно онъ возвышалъ голосъ, раздраженная мать была неудержима и, не обращая никакого вниманія на священника, она подошла ко мнѣ и, слегка трогая меня блѣдною, нѣжною рукой своей на груди за одежду, говорила опять уже кротко:
— Слушай, слушай, Одиссей, слушай меня, старуху. Я христіанка такая же, какъ ты, какъ отецъ твой, какъ мать твоя… Дай Богъ ей много жить и здравствовать бѣдной… Слушай. Мать твою ты любишь? Ты долженъ ее любить. Мать твоя жалѣетъ тебя? А я, развѣ я не должна жалѣть сына моего оттого, что онъ турокъ? Что́ дѣлать мнѣ? Это правда, онъ турокъ… А ты знаешь, какой онъ турокъ? Знаешь ли ты, что онъ позволилъ людямъ повѣсить колоколъ на церкви въ чифтликѣ своемъ? Да! И виситъ теперь колоколъ ужъ годъ… «данга-данга!» звонитъ въ праздники! Тамъ онъ хозяинъ; ни паша, никто не заставлялъ его и никто не мѣшалъ. А сказалъ онъ деревенскимъ людямъ: «За это дорогу поправьте, по горѣ ѣздить нельзя ни вамъ, ни мнѣ, ни чужимъ людямъ». И поправили люди дорогу, и онъ самъ, снявши пальто, впереди всѣхъ работалъ… Понялъ ты теперь? И еще одно слово я тебѣ скажу, а потомъ иди себѣ. Я скажу тебѣ, что деревенскіе христіане хотѣли у входа на задней стѣнѣ въ церкви его портретъ написать, какъ пишутъ портреты благодѣтелей. Но сынъ мой сказалъ: «Нѣтъ, не надо. Это и по вашей вѣрѣ не совсѣмъ выйдетъ хорошо, и по моей неприлично!» Теперь иди, иди, иди, пиши отцу… что́ хочешь. Я тебѣ сказала… О! Боже! Боже мой.
И она, утомившись, сѣла на диванъ, утирая платкомъ глаза. Я не зналъ, уйти ли мнѣ или нѣтъ, и смотрѣлъ на священника вопросительно.
Отецъ Арсеній понялъ мой взглядъ и сказалъ мнѣ: «иди». Я, поклонившись, вышелъ въ сѣни, а онъ тотчасъ же за мной и сказалъ мнѣ тихо:
— Это правда. Шерифъ-бей, хоть и турокъ, но человѣкъ хорошій; онъ лучшій изъ всѣхъ турокъ здѣсь въ городѣ. Они разоряются, и какъ бы не пришлось ему и тотъ домъ, въ которомъ Благовъ живетъ, продавать. Онъ пьетъ и денегъ не считаетъ. Отцу напиши, что вотъ мать Шерифъ-бея пріѣзжала просить меня, Арсенія, чтобъ Исаакидеса и отца твоего митрополитъ отлучилъ отъ церкви. Но это, конечно, не годится. А ты все-таки напиши, что́ слышалъ… Какъ онъ прикажетъ…
Я возразилъ на это:
— Старче, напишите лучше вы сами моему отцу; а я пошлю вмѣстѣ съ моимъ письмомъ.
Отецъ Арсеній сказалъ, что подумаетъ, и сообщилъ мнѣ при этомъ, что ему приходитъ въ голову, не оттого ли Благовъ началъ вдругъ, не дождавшись моего отца, дѣло въ тиджаретѣ, что онъ не совсѣмъ доволенъ Шерифомъ; Шерифъ обѣщалъ консулу постараться черезъ другихъ беевъ въ Превезѣ или Артѣ, чтобы тамъ непремѣнно повѣсили колоколъ. Колоколъ этотъ уже довольно времени привезенъ изъ Россіи, и его все не вѣшаютъ.
— Вотъ Благовъ и недоволенъ, — прибавилъ отецъ Арсеній съ лукавою улыбкой. — Такъ мнѣ говорилъ, знаешь кто? Коэвино; и просилъ меня уговорить господина консула отложить дѣло Шерифа до возвращенія твоего отца. А мнѣ какъ въ это мѣшаться?.. Не знаю, правду ли говоритъ докторъ. Тайныя вещи отсюда, тайныя вещи оттуда… Лучше ты узнай отъ кого-нибудь. И мнѣ скажи. Тогда отцу вмѣстѣ и напишемъ.
Я вышелъ очень смущенный отъ отца Арсенія и остановился въ раздумьѣ у воротъ. Я не зналъ, что́ мнѣ теперь придумать.
Если бы самъ Исаакидесъ былъ въ это время въ Янинѣ, то я пошелъ бы къ нему и, не говоря ни слова ни о колоколѣ, ни о свиданіи моемъ съ матерью Шерифъ-бея, выспросилъ бы у него только о томъ рѣшительно, какая же именно эта сдѣлка у него съ отцомъ моимъ и большія ли выгоды придутся на нашу долю, если они получатъ всѣ деньги сполна за конфискацію хотя части имѣній Шерифъ-бея. Я очень боялся, чтобы вмѣшательствомъ моимъ не испортить какъ-нибудь отцовскаго оборота. Если бъ я зналъ тогда навѣрное (какъ узналъ я позднѣе), что дѣло идетъ только о тѣхъ двухстахъ лирахъ, которыя отецъ взялъ у Исаакидеса, чтобъ ѣхать осенью на Дунай, то это еще ничего. Занялъ — отдастъ; а если отецъ безъ отдачи взялъ за веденіе своей тяжбы отъ его имени и съ особыми условіями, то это дѣло совсѣмъ другое.
Что́ дѣлать? Какъ понять все это?
Здѣсь наши выгоды, здѣсь страданія и заботы больного отца на чужбинѣ; тамъ политическая тайна, дѣло колокола въ Артѣ, дѣло столь дорогое и для меня, какъ для православнаго грека эпирскаго. Тутъ убійство это въ Чамурьѣ. Джефферъ-Дэмъ другъ Ибрагиму; Благовъ хорошъ съ пашой. У Шерифъ-бея тоже естъ друзья и родные въ Чамурьѣ. Потомъ отъ Шерифъ-бея убѣжала домой молодая жена. Отецъ Арсеній говоритъ: «А почему, этого я не могу тебѣ сказать!» Жалко киры-Параскевы, жалко колокола, жалко выгодъ отца (онѣ же вѣдь и мои — все равно!). Жаль даже, очень жаль самого Шерифъ-бея… Пожалуй, въ иныя минуты… хотѣлось бы и этому Исаакидесу быть полезнымъ и пріятнымъ… Табачница Шерифа пойдетъ когда-нибудь на расплавку и въ ломъ какой-нибудь, а печать — дѣло вѣковъ, и въ печати, въ аѳинскихъ газетахъ, на скрижаляхъ исторіи, перомъ этого… да! этого самаго Исаакидеса вѣдь написано: «Благородный, мужественный юноша Одиссей Полихроніадесъ подвергся…» (По дѣлу Назли.)