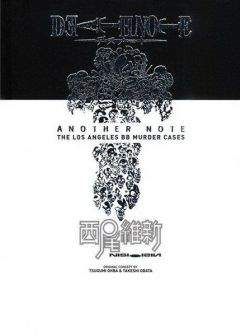Что́ лучше, слава или злато (ну — или серебро — все равно), — рѣши ты, мой другъ, а я не берусь!
Я хотѣлъ наконецъ видѣть ясно во всемъ этомъ лабиринтѣ, въ которомъ нить Аріадны держалъ одинъ только Благовъ, и рѣшился пойти къ Коэвино, чтобы попытаться хоть отъ него узнать еще что-нибудь и о колоколѣ, и о тяжбѣ, и о семейныхъ горестяхъ Шерифъ-бея: отчего это и какъ, и когда это убѣжала отъ него молодая жена?
Случилось это, видно, очень недавно, можетъ быть вчера или дня два тому назадъ, не болѣе, ибо, хотя о домашней жизни турокъ мы знаемъ несравненно менѣе, чѣмъ о семейныхъ дѣлахъ горожанъ православныхъ, и даже большею частью не совсѣмъ ясно и понимаемъ, что́ у нихъ въ гаремахъ можетъ дѣлаться и случиться, но бѣгство богатой молодой дѣвушки, только что соединенной узами брака съ однимъ изъ самыхъ извѣстныхъ въ городѣ мусульманъ, случай слишкомъ поразительный и рѣдкій, чтобы не обратить на себя общаго вниманія. Однако до меня и до всѣхъ меня окружающихъ объ этомъ и слуху не доходило.
Итакъ съ твердымъ намѣреніемъ употребить всѣ усилія моего загорскаго, купеческаго и политическаго, хотя и незрѣлаго ума, чтобъ узнать отъ Коэвино все, что́ онъ знаетъ самъ, я поспѣшилъ отъ отца Арсенія прямо къ нему…
Доктора за послѣднее время было нелегко застать дома.
Все, что́ я разсказалъ тебѣ, мой добрый другъ, о Джефферъ-Дэмѣ, о трагической смерти молодца Панайоти, и о колоколѣ, и объ отъѣздѣ Исаакидеса и Бакѣева, и о моемъ свиданіи съ матерью Шерифъ-бея — случилось не разомъ, конечно, не въ два-три дня, а слѣдовало одно за другимъ въ теченіе по крайней мѣрѣ двухъ-трехъ недѣль, не помню навѣрное.
Пока Александръ Михайловичъ Благовъ наслаждался своею изобрѣтательностью и тонкимъ соединеніемъ отважной предпріимчивости съ тѣмъ макіавеллизмомъ, который такъ нравится всѣмъ безъ исключенія христіанамъ Востока и могъ только усилить его популярность; пока Шерифъ-бей и всѣ родные его, подавленные разомъ нѣсколькими неудачами и горестями, забывали турецкую гордость и старались заискивать у всѣхъ: у приближенныхъ Благова и даже у меня, — во все это время докторъ почти не бывалъ дома и всѣ часы свободные отъ визитовъ проводилъ въ домѣ столяра куцо-влаха, мастера Яни, на дочери котораго онъ задумалъ жениться.
Одѣвшись во все лучшее, онъ уходилъ въ домъ мастера и сидѣлъ тамъ, разговаривая то съ матерью, то съ самой невѣстой (которая, какъ говорятъ, была въ самомъ дѣлѣ довольно мила), вопреки всѣмъ преданіямъ и обычаямъ города.
Бѣдный мастеръ Яни былъ такъ польщенъ, что докторъ сватается за его дочь, что рѣшился уступить его требованіямъ и позволялъ ему видѣться ежедневно, и днемъ, и вечеромъ, съ невѣстой и просиживать съ нею по два, по три часа. Конечно ихъ ни на минуту не оставляли однихъ; то сидѣла съ ними мать, то приходилъ сынъ, молодой подмастерье въ синемъ куцо-влашскомъ безрукавникѣ и шальварахъ, и, не обращая вниманія на вздрагиванія докторскихъ бровей и надменные взгляды, съ почтительною улыбкой садился вдали на край дивана слушать, какъ докторъ просвѣщалъ сестру и разсказывалъ то со слезами умиленія, то съ хохотомъ торжества о свободѣ дѣвичьихъ нравовъ въ Европѣ, о прогулкахъ подъ руку, о вальсѣ и кадрили, о томъ, что кавалеры садятся тамъ около дѣвицъ, а отцы и матери радуются этому и гордятся этимъ. Или, наконецъ, о томъ, что въ Англіи былъ одинъ Шекспиръ, который писалъ про Италію и описывалъ, что на балу Юлію (дочь герцога, «ко́нта»!) берутъ молодые люди за обѣ руки безъ перчатокъ! И онъ бралъ невѣсту за руку безъ перчатокъ, а та смотрѣла на брата и глазами спрашивала: «теперь что́ жъ дѣлать мнѣ, буря и погибель моя!» А мать или братъ говорили доктору жалобно: «Гдѣ у насъ, у яніотовъ, такое политическое просвѣщеніе!.. Вотъ вы только идете по улицѣ, такъ крикомъ всѣ сосѣдки кричатъ и у калитокъ, и въ окна: Коэвино къ Мариго́ столяровой пошелъ! и ставни рѣшетчатыя такъ и стучатъ, всѣ кидаются въ нихъ смотрѣть».
Было и еще одно затрудненіе; докторъ хотѣлъ, чтобы невѣстѣ купили хорошую шляпку и сдѣлали бы платья всѣ по послѣдней модѣ, какъ у madame Бреше, чтобы юбки были длинныя и сзади влеклись бы по полу и чтобы дали два орѣховые комода въ приданое. Но такихъ платьевъ, какъ у madame Бреше, шить никто не брался; всѣ шили здѣсь круглыя и короткія юбки, чтобъ онѣ колоколомъ только стояли на огромномъ малако́фѣ107. Шляпку тоже негдѣ было въ скорости порядочную достать. И насчетъ комодовъ мастеръ Яни очень затруднялся; скоро великая Четыредесятница; дочь компрометирована; одинъ комодъ поспѣетъ, а другой гдѣ взять?.. Докторъ уступилъ, но сказалъ, чтобы хоть одинъ комодъ кончали скорѣе… Онъ и самъ начиналъ бояться, что раздумаетъ жениться, и постоянными посѣщеніями поддерживалъ въ себѣ подобіе любви къ этой простенькой дѣвушкѣ… Поэтому его дома застать было въ это время очень трудно.
Я засталъ одну Гайдушу; и это было къ лучшему. Докторъ почти все, что́ зналъ, разсказывалъ ей, а она могла передать мнѣ все спокойно и гораздо лучше, чѣмъ онъ самъ, безъ крику, безъ вводныхъ эпизодовъ, безъ утомительнаго шума и хохота.
Я не могъ понять, какъ она смотритъ на семью столяра и на желаніе доктора жениться. Казалось, какъ будто бы она смирилась предъ мыслью о законномъ бракѣ и не находила себя въ правѣ за это осуждать Коэвино.
— Докторъ все у невѣсты, кира-Гайдуша? — спросилъ я, не желая обнаруживать сразу настоящую причину моего посѣщенія.
Гайдуша усмѣхнулась и отвѣчала:
— У невѣсты. Вся махала108 голову потеряла. Отъ окошекъ съ утра не отходитъ. Все сторожатъ, когда онъ пойдетъ къ невѣстѣ. Варварскій народъ!..
— Но вѣдь у нея нѣтъ приданаго? — сказалъ я.
— Докторъ не любостяжателенъ. Съ его ученостью и даромъ, который онъ отъ Бога имѣетъ, деньги онъ и самъ найдетъ.
— А собой она хороша? — спросилъ я еще.
— Молодая, — холодно отвѣчала Гайдуша. И, какъ бы желая перемѣнить разговоръ, сама начала спрашивать у меня, что́ дѣлается въ консульствѣ и какія мѣры принялъ Благовъ относительно убійства въ Чамурьѣ? Были ли селяне у другихъ консуловъ, и что́ имъ консула сказали, и куда поѣхалъ Исаакидесъ? Правда ли, что онъ именно въ Нивицу и поѣхалъ, чтобъ обстоятельнѣе все разслѣдовать? И о колоколѣ артскомъ даже спросила.
Я очень обрадовался и, отвѣтивъ ей на все это, какъ слѣдовало и какъ было прилично, сталъ самъ ее разспрашивать о семьѣ Шерифъ-бея, о бѣгствѣ только что прибывшей въ домъ его богатой молодой жены и обо всемъ, что́ мнѣ было нужно.
Гайдуша была истинно великаго ума женщина. Я не шучу, утверждая это.
Она не только съ восхитительною ясностью изобразила мнѣ секретныя семейныя дѣла Шерифъ-бея, но объяснила даже мнѣ какъ нельзя лучше многое изъ политики Благова, отчасти по собственнымъ догадкамъ и предположеніямъ, отчасти потому, что знала чрезъ Коэвино. Исаакидесъ старался, нельзя ли теперь, сейчасъ, поскорѣе взыскать что-нибудь съ Шерифъ-бея, потому что дядя и мать только что сосватали ему одну изъ самыхъ богатыхъ и знатныхъ невѣстъ города, Азизе́-ханумъ, дочъ Пертефъ-эффенди.
Объ этомъ Пертефъ-эффенди Коэвино говорилъ, сверкая глазами: «О-о! Пертефъ-эффенди! А-а! Пертефъ-эффенди… Это тотъ Пертефъ-эффенди, котораго отецъ дерзалъ бороться съ самимъ Али-пашой Янинскимъ… О-о! А-а!.. Пертефъ-эффенди»…
И не только одинъ Коэвино, но и старикъ Мишо, почти нѣмой и ко всему равнодушный, тотъ красный съ бѣлымъ старикъ Мишо, котораго такъ уважалъ Благовъ, говорилъ о Пертефъ-эффенди съ глубокимъ вздохомъ: «Поднялъ ношу этотъ человѣкъ въ молодости своей!»
Пертефъ-эффенди именно ношу поднялъ, и спина его съ раннихъ лѣтъ не могла уже разогнуться. Безжалостный Али-паша, враждуя съ отцомъ его, возненавидѣлъ и дѣтей. Пертефа еще отрокомъ онъ посадилъ въ подземелье своей крѣпости, въ особомъ углубленіи, въ стѣнѣ, и посадилъ надолго, такъ что Пертефъ тамъ росъ, не имѣя мѣста выпрямиться никогда во всю длину тѣла. Такъ онъ выросъ, и, когда дверь тюрьмы отворилась предъ нимъ, его станъ былъ уже согбенъ на всю жизнь. Онъ былъ очень богатъ, и Азизе́-ханумъ была его младшая и любимая дочь. Въ Янинѣ привычны люди (и христіане и турки) давать за дѣвицами большое приданое, и безъ приданаго не беретъ никто, ни богатый, ни бѣдный.
Гайдуша о самой Азизе́-ханумъ говорила мнѣ такъ:
— Эта дѣвушка очень горда и очень благородна. Не могу я сказать, чтобъ она была красива, бѣдная… Бѣла она, это правда, и очи имѣетъ черныя, большія и огненныя. Докторъ ее лѣчилъ и въ гаремѣ часто бывалъ у нихъ. Онъ съ турчанками очень простъ, и онѣ съ нимъ не стыдятся, потому что привыкли къ нему. Онъ хвалитъ ея умъ и говоритъ, что она даже хорошія двустишія на греческомъ языкѣ сочинять умѣетъ. И умъ есть, — продолжала Гайдуша, — и глаза огненные, и рода высокаго, и денегъ много, и лицомъ бѣла. Однако судьбы ей хорошей нѣтъ, куропаточкѣ бѣдной… Худа, и естъ у нея, все равно какъ у меня, — прибавила еще Гайдуша съ какимъ-то внезапнымъ лучомъ не то гордости, не то гнѣва въ глазахъ, такихъ же огненныхъ, какъ и очи албанской дворянки, о которой она говорила, — есть у нея недостатокъ какъ у меня… Я хрома, а она кривобока… Это отъ Шерифъ-бея скрыли. Переѣхала невѣста къ нему въ домъ. Вошелъ къ ней женихъ. Пробылъ тамъ минутку, возвратился къ матери и со слезами на глазахъ сказалъ ей: «Матерь моя, что́ ты сдѣлала! Я ее видѣть не могу… Я не могу приблизиться къ ней!» Вотъ какое оскорбленіе! И кира-Параскева, и Абдурраимъ, его дядя, усовѣщивали его и просили… И говорили: «Вѣдь она молоденькая: ей всего семнадцать лѣтъ. Умъ есть, богата…» А Шерифъ только вздыхалъ и говорилъ: «Не могу я приблизиться къ ней!..» Вотъ горе! Долги, разоренье, люди роскошные, знатные… Очагъ старинный и славный… Все пропало!.. Хорошо. Уговорила его мать возвратиться къ невѣстѣ. Онъ возвратился; но Азизе́-ханумъ заперла дверь и не впустила его. На другой день еще хуже. Турчанки знакомыя пришли поздравлять. Азизе́-ханумъ не выходитъ къ нимъ. Пошелъ мужъ просить у нея извиненія и обѣщаетъ жить съ ней хорошо и любить, и говоритъ ей: «Послушай, Богомъ я тебя заклинаю, похорони ты меня лучше послѣ, только не срами и выйди къ этимъ женщинамъ!» А она какъ взглянетъ на него страшно и какъ засмѣется, и спрашиваетъ: «Хоронить? Хоронятъ люди близкихъ людей. А я тебѣ что́?» Онъ и такъ и этакъ, и оттуда и отсюда, но Азизе́-ханумъ какъ львенокъ озлобилась, схватила себя за волосы, и, топнувъ ногой, закричала на него: «Не хочу я!» Опять затворилась; послала отцу своему сказать, чтобъ онъ за ней карету прислалъ, и уѣхала… И остался нашъ Шерифъ-бей безъ жены молодой и опять безъ денегъ… Былъ онъ тутъ у доктора послѣ этого и даже заплакалъ, потому что въ эти самые дни и въ тиджаретѣ г. Благовъ началъ дѣло Исаакидеса. Ты хотѣлъ знать, что́ случилось. Теперь я сказала тебѣ.