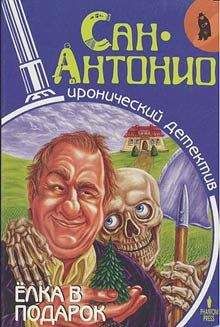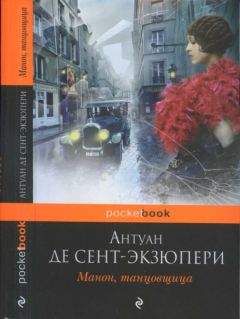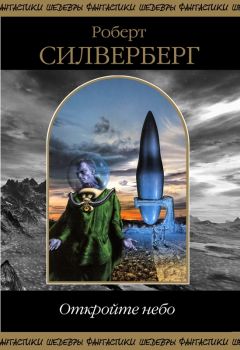однако этот западный, едва заметный, практически неощутимый, снова тут как тут. Продолжаются попытки взлететь, и все без толку. При последней попытке сильный порыв ветра скоростью сто километров в час едва не опрокидывает гидроплан. На следующий день все, как в кошмарном сне, повторяется.
Он сидит на камне и не отрывает взгляда от спокойно текущей воды, которую уже успел возненавидеть. И даже не слышит, как подъезжает машина и к нему подходит человек с телеграммой из центрального офиса. Месье Дора имеет сообщить, что пятьдесят три попытки – это уже слишком. Что они не могут откладывать отправку почты и что ему следует загрузить мешки на борт первого же корабля, идущего в Европу.
Служащий ожидает дальнейших инструкций, но так их и не получает. Мермоз, уйдя в себя, глядит на облака над бесстрастными кронами деревьев. Телеграмма зажата двумя пальцами, и он внимательно ее разглядывает. Сначала – со злостью, а потом – с любопытством. Прямоугольный листок бумаги нервно трепещет на ветру. На ветру? Мермоз поворачивает лицо навстречу ветру. Ветер сменился – он южный!
Он поднимается и громко кричит:
– Гимье, Дабри… по местам!
Мермоз заводит мотор, набирает скорость, и «Граф Де-ла-Волькс», заскользив по спокойной глади лагуны, легко, без видимых усилий, поднимается над водой.
Ночью идет дождь, снаружи – беспросветная тьма. Гимье – их уши, он получает сигналы с различных точек контроля, на нем навигация. Дабри – их глаза, он производит расчеты, определяя местоположение самолета, и прокладывает курс, записывая его на листочках, которые передает Мермозу. Несколько часов тряски из-за неблагоприятных атмосферных явлений. На ветровое стекло падает сперва дождь, потом град. А еще несколько капель масла, и Мермоз делает для себя зарубку в памяти: просить, чтобы не переливали в бачок масла – плещет через край. Сам он ничего не может видеть в окружающей их черной мгле, но на приборной доске стрелки пребывают в спокойствии, и в музыке мотора слышится ровный гул.
Однако оркестр может сыграть и в самых неблагоприятных условиях. Когда рассвело, ветровое стекло повергает его в шок: оно полностью покрыто маслом. Мотор продолжает давать свои тысячу шестьсот оборотов в минуту, но того и гляди останется без масла, а когда это случится, перегреется и в конце концов воспламенится. Он льет в двигатель резервные тридцать пять литров масла и теперь, в почти девятистах километрах от Сенегала, уже знает, что до земли им не долететь. Гимье связывается по радио со спасательным судном «Фокея», находящимся от них почти в ста километрах.
Корабль они замечают через тягостный час полета, когда температура двигателя уже приближается к опасной отметке в сто градусов. Садиться на воду в условиях штормового моря с волнами почти двухметровой высоты не рекомендуется, но выбора у них нет. Он знает, что сесть нужно между волнами, нужно попасть в те пять или шесть секунд относительного спокойствия, пока не поднимется следующая волна. Нервы – враг, а его сердце если когда и колотится, едва не выпрыгивая из груди, так только в разгульные ночи потери всяческих тормозов. А вот в ситуациях повышенного напряжения пульс у него, напротив, замедляется, словно засыпая. Мермоз спускается к самой воде, выдерживает паузу и толкает штурвал вперед, сажая гидроплан между волн. На помощь к ним движется баркас, прыгая по океанским волнам.
Операция спасения при штормовом море легкостью не отличается. Гимье бросается к дверце, но Мермоз хватает его за куртку.
– Почта, Гимье! Помогайте.
Секунду его экипаж колеблется. На перегрузку мешков уйдет драгоценное время, это риск для жизни. Но Мермоз, качаясь и чуть не падая, уже добрался до спуска в грузовой отсек, откуда нужно достать сто пятьдесят килограммов писем. Мермоз перекидывает мешки Гимье, а тот – Дабри, который оседлал один из поплавков, опустив ноги в воду. Моряки протестуют – будет перегруз, но летчики делают вид, что ветер и шум волн не дают им расслышать, и продолжают передавать мешки. Потом на перегруженный баркас поднимаются два члена экипажа. Мермоз же карабкается по гидроплану, закрепляя на нем стальной трос, и оказывается на баркасе с другим концом, чтобы «Фокея» повела его на буксире.
Капитан с изумлением взирает на спасательный баркас, идущий с опасным перегрузом за счет почтовых мешков, и на пилота, упрямо вцепившегося в конец буксировочного троса, который он сует матросам раньше, чем собственную руку.
«Фокея» начинает буксировать гидроплан к африканскому берегу, но через несколько сотен метров его накрывает гигантская волна, и он скрывается под водой.
Глава 58. Буэнос-Айрес, 1930 год
Тони своим мощным телом прокладывает путь по узкому тротуару улицы Коррьентес, где в изобилии встречаются мужчины в шляпах и женщины в воскресных костюмах. За ним шагает Гийоме под руку с Ноэль. Он более серьезен, чем обычно. Тони сразу это заметил, когда зашел сегодня за ними. На мостовой автомобили и трамваи теснятся в ошеломляющей толкотне, в которой есть что-то от праздничной и бурлящей атмосферы города, переживающего умопомрачительный рост. Они проходят мимо итальянской парикмахерской, мимо трактира, откуда доносится запах жареного, а также сладкий голос Карлоса Гарделя с подрагивающей граммофонной пластинки. Наконец доходят до входа в луна-парк, расположившийся в середине проспекта на пустыре: перед ними ворота в псевдомавританском стиле, как в сказочном замке. С медлительностью древнего динозавра крутится колесо обозрения.
Парки аттракционов вызывают в нем странный винегрет чувств – бурное веселье пополам с печалью.
– Американские горки такие короткие! Взлетаешь и падаешь, пугаешься и хохочешь, и – раз, уже конец. Все так быстро кончается!
А еще там есть фотограф с большим самолетом из картона, в котором прорезаны выемки для лиц, так что получается, что как будто сидишь в его кабине.
– Давайте сфотографируемся в этом самолете!
Гийоме этим вечером не в