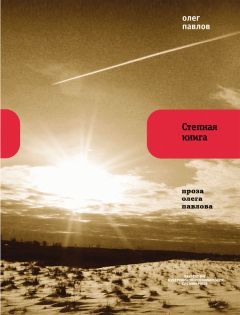У нас с самого начала было заложено в словесности такое вот противоречие, была такая дикость: просвещенные люди писали и говорили на чужеродном, французском языке. Уже по одному этому можно постичь пропасть отчуждения и презрения не столько к народу, сколько к самой ж и з н и, что океаном омывала игрушечные островки дворцов да усадеб. Как раз с простонародьем была и душевная связь: эту близость отеческую рождали частые войны, что кровью пролитой роднили дворянство с простонародной средой солдат. Достоевский указал еще одно место русского общежития - каторгу. Но общей жизни, общей земли и воздуха, казалось, не могло возникнуть.
Однако это о б щ е е возникло - и только в русской литературе. Возникло, как идеал, даже точней сказать - как тоска. С этой тоской по общем у пишет Радищев "Путешествие", где одинаково достается разоблачений и мужикам, и барам; это же, подспудно, стало и русской тоской "по Богу", по правде, по истине. Но что надо понять - нравственный императив этого духовного переворота: стали писать о тех и за ради тех, кто даже и не мог-то, не умел читать. Но для целого, для обретения смысла жизни общей требовалось, чтобы тот, о ком и ради кого пишется, и сам бы узнал, постиг прочитал. И в литературе нашей было всегда два генеральных направления: одно покоряло океаны русской жизни, неведомые, рассказывая просвещенному сословию буквально о том, что "варится в горшочке на ужин" у сапожника или плотника. А другое - учило сапожников и плотников читать, просвещая их невежество, создавая уже в среде простонародья этот просвещенный слой.
Вся эта, если хотите, схема, справедлива до наших дней. И если "Новый мир" времен Твардовского был протестом, то более глубоким по своей сути: интеллигенции стало нравственно необходимо понимать, знать, чем жив народ, порабощенный колхозами и скрытый от глаз за парадными картинами потемкинских деревень... Деревенской прозой зачитывались не крестьяне, а учителя да инженеры. Написанное расходилось родными, сильными волнами по простору России. А без всей России не мыслили себя, своей судьбы - ни Солженицын с Астафьевым, ни сам тот журнал. Но как просто оказалось теперь новообращенным в литературу существовать именно что без России, закупоривая ее в свои филологические колбы.
Миссия русской литературы в том, чтобы из всех сил противиться быть литературой, - и она говорила за "тварь бессловесную". Она образует историю, которой нет как осмысленного и целого из-за нескончаемой череды исторических катастроф. Она образует народ, которого нет как нации - как нет даже имени русского народа в названии построенного на его крови государства. Она образует собой океанский простор жизни, где нет в свой черед одного для всех Закона, Справедливости, Суда. Она же образовала самое ценное и общее, что есть в России - культуру. Но уничтожать ценности этой культуры в силах только те, кто умеет читать и писать, да еще и знает в этом толк. Точно так, если вы говорите о падении нравственности в обществе, то это значит, что меньше ее стало в людях, ранее бывших или считавших себя духовными, нравственными: никто другой не виноват, потому что все другие всегда и жили своей суетной грешной жизнью, думая только о хлебе насущном, но, между прочим, почитая господ литераторов выше себя.
На писателей, на деятелей литературы, и в советское время глядели как на начальников - почтительно, но без особого доверия и любви. Бесконечно были они далеки от народа, но и люди земли, труда - бесконечно были далеки от тех, кто жил подальше от заводов да скотных дворов. Наше время наращивает эту чужесть с новой силой - с энергией социального и культурного обновления. Но эта энергия (и в обществе, и в культуре) направлена не на созидание общего, а на расслоение и обособление.
Новым же оказывается давно забытое старое: варварство хижин и дворцов.
ЮБИЛЕЙЩИНА
Мемуарно-юбилейной публикацией Евгения Евтушенко "Обреченный на бессмертье" - главкой из биографической книги, посвященной Солженицыну "Литературная газета" открыла не иначе, как юбилейные торжества, ведь не тайна, что Александру Исаевичу Солженицыну осенью этого года исполнится восемьдесят лет. Но в другой газете, которая еще смелей называет себя "газетой московской интеллигенции", почти в то же самое время вышла статья Роя Медведева "От триумфа до безвестности", сдобренная голосами "с улицы" и мнениями деятелей культуры о Солженицыне, - однако там, похоже, торжества уже так скоро хотели не открыть, а отменить. Но в духе обоих публикаций - не газет - есть и нечто совершенно одинаковое.
Уже в простом этом наборе заголовков, обстоятельств кишмя кишит по-ярмарочному, вероятно, то же самое лицемерие, о котором писал в одной из своих статей Солженицын, только живое, а не пойманное и скованное мыслью, потому что сколько ни думай, сколько ни пиши о нем, взятое невесомо из жизни, оно всей тяжестью своей канет обратно же в жизнь... Евтушенко обрекает Солженицына на бессмертие, попутно отказывая в смысле всему, что написано после "Одного дня Ивана Денисовича". Не иначе как итог жизни этой и этого творчества подводит и Рой Медведев, но менее утешительный: Солженицын не сделал всего, что мог, а читай Медведева внимательней - ничего не сделал, ничего не мог, ни кем он не стал... Рейтинг его как политика в России пал!
И это почти детективная история, интригу которой и надо суметь понять: ЮБИЛЕЙ СОЛЖЕНИЦЫНА и ЛИЦЕМЕРИЕ НА ИСХОДЕ ХХ ВЕКА. Эти два тяжелейших, снаряженных самой мощной начинкой снаряда испытают на прочность две Судьбы судьбу писателя и судьбу интеллигенции, тогда как все навязавшиеся за последние десятилетия узелки на линиях этих судеб только давали на ощупь понять, что уже-то снова напряженны и неясны. Писателя, возвратившегося на родину из многолетнего изгнания, творческая интеллигенция в своей массе встретила уже как врага - в синодике у Роя Медведева читайте, что говорили Сарнов, покойный Юрий Нагибин, Бакланов и многие, но ведь не цитирует он их изречений других, другого времени и образца - когда они много лет тому назад тоже встречали Солженицына с "Одним днем Ивана Денисовча" как писателя, и чуть не плакали от восторгов. В "Дневнике" Юрия Нагибина тех лет почти дословно - "явился мессия, пророк!" А вот его же, Нагибина слова, и это уже в новейшем было сказано времени, они-то и пригождаются Медведеву: "Человеку, создавшему двадцать томов, кажется, что он объял всю Россию, ее прошлое, настоящее и будущее. Это все чушь!"
Что же произошло? Солженицын - это Солженицын. Деятели культуры, от Евтушенко с Роем Медведевым до Кедрина с Прохановым, что неожиданно стали на глазах целым неделимым коллективом - это уже массовка. А такого юбилея в России - долго ждали, давно ждут. Потоком польются и панегирики и нечистоты, но сольются в одну-то полноводную мутную реку, что хлынет в общество, а куда ж еще "излить душу" людям интеллигентным, как не в общество? Этого слива грязных вод с души избежать невозможно. Тогда, в шестидесятых все почти были небесной одной белизны; теперь, под конец века, одни, не раз и не два заключая сделки с совестью, другие, проигравшись в пух и прах кто на мелкой, кто на крупной ставке в политику, будто б в банальное "очко", остались глубоко неудовлетворенными тем, как и во что воплотились их судьбы остались недовольны своим творческим или же моральным проигрышем. Не имея ни права морального, ни такой судьбы творческой, чтобы равнять себя с Солженицыным, проигравшиеся эти игроки будут пытаться р а в н я т ь под себя Солженицына.
Это и есть - юбилейщина. Был вот юбилей у Сергея Михалкова, но это же Михалков, и никто не будет себя к нему примерять, а только великодушно, с высоты своей, простят, что давно уж простили и себе. Но юбилея Солженицына мало кто себе простит. Нет другой такой судьбы в литературе как у него, а самое важное - он остался самим собой; cамая-то правда в том - что не играл ведь он в азартные игры этого века, а потому и не проигрался!
Смешней же другое - канализировать свои грехи, проигрыши и скопившуюся желчь на самом деле некуда. Нельзя излить теперь душу обществу, потому что общества у нас нет. Ну, нет, лет как пять, после перестроечного пиршества духа, общественной мысли; ну нет, нет мнения общественного после расстрела парламента и чеченской войны; нет общественности, даже собственности общественной, однокоренной, теперь с гулькин нос. Из всех интересов общие только те, как выжить, но выживают, как известно, только поодиночке, а всем миром разве что продают ни за грош.
Солженицын советует как обустроить Россию, чувствуя личную ответственность за Россию, но это чувство доступно и каждому гражданину. В одиночку же он сделал столько, сколько не сделал и весь коллектив ораторствующей интеллигенции, пустивший на воздух энергию, сотворенную в людях и самоотрверженым русским художником - сотворенную его самыми запретными в этом веке, но и самыми свободными книгами.