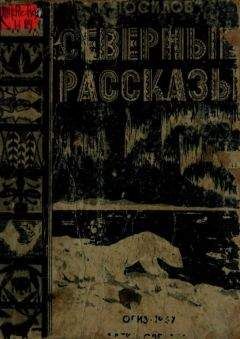И дед даже загреб в ту сторону, такая его брала досада.
— Что он делает, что он делает? — спросил я, видя, что случилось что-то особенное.
— Да ведь он в садок наш забрался, окаянный!.. Всех карасей приест, всех карасей!
И старик, не зная, что предпринять, сам взялся за мое ружье и ну палить в ту сторону, чтобы отбить хоть этим зверя.
Но медведь не унимался: он словно вымещал на бедных карасях злобу на нас и стремительно носился по озерку, чтобы взмутить там воду. Взмутил и сразу затих.
— А теперь что? — спрашиваю я опять деда.
— Что? — даже рассердился мой старик. — Лопает! Что станет делать, как не лопать! Взмутил, повыжил карасей и ест! Ест ведь, каналья, ест наших карасей!
Действительно, медведь ел карасей; было прекрасно слышно даже его чавканье, — и дед плюнул только с досады.
Долго медведь ел карасей, и долго мы болтались бесцельно по озеру. Но вот с рассветом зверь ушел, и мы отправились первым долгом проведать садок, чтобы определить убытки.
Увы! — от наших карасей остались одни только объедочки: на берегу валялись лишь хвосты да во мху затоптанные караси. А садок, бедный садок, был такой мутный и зеленый, как будто бы в нем только что выкупалось стадо медведей… Словом, полное опустошение.
Старик только хлопал руками, бранил медведя самыми отборными словами и качал головой.
— Постой, Савва, — говорю я, — у нас еще есть довольно ставленных сетей. Может, там попали добрые караси!
Но и там ожидало нас разочарование.
Хоть бы один карась попал в сети! Словно они, заслышав ружейные выстрелы, шлепанье медведя на берегу, ушли окончательно в свои темные камыши, чтобы уже не показываться до самого утра. В сетях оказались только щука да еще запутавшаяся гагара, ради которой пришлось старику опять пожертвовать сетью. Вдобавок к этому он не досчитался пары сетей. Оказалось, в них попал медведь, переплывая озеро, и, разумеется, так с ними разделался на берегу, что от них остались только нитки. Словом, полный разгром, полная неудача на озере, какой не видал еще бедный старик за все время, как он тут рыбачил.
— Без ухи ведь оставил проклятый! — повторял он несколько раз, словно не мирясь еще с действительностью. Но я, видя, что старику страшно хочется ухи, предлагаю сварить ее хоть из щуки.
С голоду решаем сварить щуку и тащим лодку целую версту. Но на берегу — ни шалаша, ни котелка, ничего, что там мы оставили, чтобы не таскать напрасно. Очевидно, разгром и здесь.
— Ну, и подлец! Ну, и каналья мохнатая! Вон он что еще наделал! — разразился старик и чуть не заплакал от досады.
Нечего и говорить, что мы возвращались невеселые и голодные в этот день.
Под влиянием ли голода, или впечатления, произведенного медведем, но старик пустился в философию, по которой выходило, что не медведь виноват в его несчастьи, а он сам, так как давно уже не делал жертвоприношения тому таинственному божеству лесов, который властвует над рыбой.
Но я думал на этот раз иначе: я решил в первую же ночь подкараулить нахала и убить у самого дома.
Я залез с раннего вечера на дерево, но напрасно просидел на нем до самого утра: медведь не явился. Он так был сыт нашими карасями, что не показывался целую неделю. А когда стал вновь посещать мою зимовочку, то ночи стояли такие темные, непроглядные, что и думать было нечего его подкарауливать.
Поди, он и теперь еще бродит около этой покинутой зимовочки, вспоминая свой ужин!
— Как же так? неужто нельзя дальше ехать?
— Да так, барин, никак невозможно: ростепель! — Вы посмотрите, как реку-то вспучило…
— Да где же я у вас тут буду дожидаться?
— А вон у Сидора. У него свободная клетушка!
Так происходил у меня разговор, когда я, торопясь в одно зырянское село, на реке Печоре, вдруг неожиданно был захвачен распутицею. Приходилось поневоле остановиться в маленькой зырянской деревушке.
Сидор, угрюмый на вид, рыжебородый зырянин, охотно показал мне клеть, в которой меня особенно прельстили розовые, пахнувшие лиственницей, бревна.
Этот запах дерева, эти чистые еще стены и пол, новая печь, словно еще ни разу нетопленная, светлые стекла в окнах, — все меня так неожиданно утешило, что я с удовольствием решился остаться.
Через полчаса я уже был окончательно водворен на месте жительства. Вместо угрюмого Сидора появилась в клети его скромная баба-зырянка, которая живо занялась протапливанием печи. А я сидел в переднем углу, за самоварчиком, который чудом каким-то нашелся и в этой глуши. Единственно, что меня стесняло, — это соглядатаи. Ребятишки решительно не покидали меня ни на минуту. Выйду ли я на улицу, — они следуют за мной; зайду ли я в свою квартиру, — они засматривают в окна, как на какое чудо.
Даже жена сурового Сидора, и та была возмущена беззастенчивым любопытством.
— Уйдите вы, пострелы этакие! — кричала она и грозила в окно. — Ужо, Андрюшка, скажу я твоей матери!
Но Андрюшка, стоявший в толпе, только пятился немного при этом напоминании о строгой матери и снова толокся у самого окна, заглядывая в него с другими ребятами.
Вдруг мне пришла мысль испробовать одно средство чтобы избавиться от детского надзора. Я достал темные очки, которые я употребляю всегда весною в путешествии, чтобы защитить глаза от блеска снега; надел я эти очки и сразу оборотился к окну.
Эффект был поразительный: дети разом разбежались, а мы с хозяйкой хохотали чуть не до слез.
Но странно: после того, как убежали дети, я стал скучать и заглядывал в окно, будто поджидал их. И я решил после чая отправиться искать Андрюшку с его товарищами.
Ребят я без труда разыскал на обрывистом берегу реки. Но то, что они там делали, мне было совсем непонятно. Они сидели будто в засаде и зорко к чему-то присматривались.
„Играют в прятки“, — подумал я; но тотчас же разубедился в этом, потому что в той стороне, куда смотрели дети, не было ни души на вытаявшем береге.
— Что вы тут делаете? — ласково спрашиваю не заметивших меня ребят. Ребята было бросились от меня в сторону, но сразу остановились, видя, что нет на мне страшных очков.
Я погладил одного по голове, потрепал черноглазую девочку по щеке, и дети осмелились. Андрюшка, старший из них, наконец, раскрыл рот и проговорил смело на мой вопрос:
— Пуночек ловим! вон… птичек…
Я посмотрел в сторону, куда он указывал, и, действительно, увидал беленькое стадо снежных жаворонков, которых на Печоре зовут пуночками.
— Зачем же вы ловите их?
— Есть! Мамка жарит… Купец просит…
— Зачем же купцу нужны эти пуночки ваши? Он тоже ест, что ли их?
— Нет, не ест… ему шкурки надо… грош дает…
Я понял, что здесь скупаются торговцами шкурки и этих вестников весны, пуночек, как скупается и все остальное — и зверь и птица. Оказалось, что дети в огромном числе ловят этих птичек, и сами же сдирают с них шкурки. Это было их детским промыслом, жестоким детским промыслом.
И это жестокое дело сейчас же совершилось на моих глазах. Дети гурьбою бросились на ближайшую проталинку, стали ловить пичужек, давить их маленькими ручонками… Детский крик и птичий писк разом огласили воздух. Я поспешил туда и в первый раз увидел необычное зрелище.
Дети падали на запутавшихся в силках пуночек, хватали их; бедные пичуги пищали в их руках, разевая ротик с тоненьким белым языком, и бились крылышками, изо всех сил стараясь вырваться на волю. Но их держали цепкие детские руки.
— Постойте, постойте, дети! — говорю я им. — Не жмите их, им больно!.. Что вы будете с ними делать?
— А вот что! — показал Андрюшка, свернув одним движением руки головку пуночке, отчего я пришел в ужас.
— Продайте мне всех ваших птичек, — говорю детям. — Почем возьмете? Только за живых, мертвых даром не возьму.
— Грош! — отвечал за всех бойкий Андрюшка.
— Идет! Сколько их у вас?
Дети сосчитали живых птичек, их оказалось восемь.
— Идет! — говорю я детям и, присаживаясь около них на траву, достаю кошелек из кармана.
Дети с жадностью заглядывают в кошелек, видя серебряные монеты. Начинаю рассчитываться, для чего потребовалось отсчитать копейки каждому отдельно: дети не доверяли при расчете друг другу.
Андрей, как старший из всего десятка ребят, осмотрел внимательно копейки и раздал их счастливым хозяевам птичек.
— Ну, давайте теперь мне по одной птичке! Только не мните их!
Андрей первый подал мне серую пуночку.
Я разжал ладонь, и птичка мгновенно улетела.
Ребята, казалось, не ожидали ничего подобного. Следили за ее полетом некоторое время, и только потом взглянули с удивлением на меня, думая, вероятно, что я нечаянно выпустил птичку.
— Давай другую, — говорю я Андрею.
— Держи крепче, — говорит он, и подает мне вторую свою птичку.