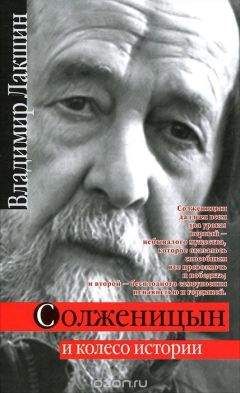Но призыв его "держаться" и "в руки не даваться" ещё бы не нашёл у меня отзыва!
Слава "меня не сгложет... Но я предвижу кратковременность её течения и мне хочется наиболее разумно (для моих уже готовых вещей9) использовать её".
Мы уже стали так теплы, хотя с глазу на глаз, без редакции, ещё и не встретились ни разу. Вскоре я был у него дома - и как раз курьер из редакции (потом - уличённый стукач) принёс нам сигнальный экземпляр 11-го номера. Мы обнялись. А. Т. радовался как мальчик, медвежьим телом своим порхая по комнате: "Птичка вылетела! Птичка вылетела!.. Теперь уж вряд ли задержат! Теперь уж - почти невозможно!" (Почти... И он тоже до последнего момента не был уверен. Да разве не случалось - уничтожали весь отпечатанный тираж? Труд ли, деньги ли нам дороги? Нам дорога идеология.) Я поздравлял: "Победа - больше наша, чем моя".
"Шпарьте прямо ко мне!" - в таком необычном тоне заговорил он со мной по телефону в мой следующий приезд. Сразу после выхода тиража 11-го номера был пленум ЦК, кажется - о промышленности. Несколько тысяч журнальных книжек, предназначенных для московской розницы, перебросили в ларьки, обслуживающие пленум. С трибуны пленума Хрущёв заявил, что это - важная и нужная книга (моей фамилии он не выговаривал и называл автора тоже Иваном Денисовичем). Он даже жаловался пленуму на своё политбюро: "Я их спрашиваю - будем печатать? А они молчат!.." И члены пленума "понесли с базара" книжного - две книжечки: красную (материалы пленума) и синюю (11-й номер "Нового мира"). Так, смеялся Твардовский, и несли каждый под мышкой красную и синюю. А секретарь новосибирского обкома до заключительной речи Хрущёва сказал Твардовскому: "Ну, было и похуже... У меня в области и сейчас такие хозяйства есть, знаю. Но зачем об этом писать?" А после Никитиной речи искал Твардовского, чтобы пожать ему руку и замять свои неправильные слова.
Такова была сила общего захвала, общего взлёта, что в тех же днях сказал мне Твардовский: теперь пускаем "Матрёну"! Матрёну, от которой журнал в начале года отказался, которая "никогда не может быть напечатана", - теперь лёгкой рукой он отправлял в набор, даже позабыв о своём отказе тогда!
"Самый опасный - второй шаг! - предупреждал меня Твардовский. - Первую вещь, как говорят, и дурак напишет. А вот - вторую?.."
И с тревогой на меня посматривал. Под "второй" он имел в виду не "Матрёну", а - что я следующее напишу. Я же, переглядывая, что у меня написано, не мог найти, какую вытянуть наружу: все кусались.
К счастью, в этот именно месяц написалась у меня легко "Кречетовка" прямо для журнала, первый раз в жизни. А. Т. очень волновался, беря её, и ещё больше волновался, читая - боялся промаха, боялся как за себя. С появлением Тверитинова его опасения ещё усилились: решил он, что это будет патриотический детектив, что к концу поймают подлинного шпиона.
Убедясь, что не так, тут же послал мне радостную телеграмму. Над "Кречетовкой" и "Матрёной", которые по его замыслу должны были утвердить моё имя, он первый и последний раз не высказывал политичных соображений "пройдёт - не пройдёт", а провёл со мной в сигаретном дыму честную редакторскую работу10. Его уроки (моей самоуверенности) оказались тонкими, особенно по деревенскому материалу: нельзя говорить "деревенские плотники", потому что в деревне - каждый плотник; не может быть "тесовой драни"; если поросёнок жирный, то он не жадный; проходка в лес по ягоды, по грибы - не труд, а забава (впрочем, тут он уступил, что в современной деревне это уже - труд, ибо больше кормит, чем работа на колхозном поле); ещё - что у станции не может расти осинка, потому что там всё саженое, а её никто никогда не посадит, что "парнишка" старше "мальчишки". Ещё он очень настаивал, что деепричастия не свойственны народной речи, и поэтому нельзя такую фразу: "заболтав, замесив да испеку". Но тут я не согласился: ведь наши пословицы иные так звучат. Эти частые наши встречи осенью 1962 года были как будто и непринуждённы и очень теплы. В те месяцы не чаял А. Т. во мне души и успехами моими гордился как своими. Особенно ему нравилось, что я веду себя так, как он бы и замыслил для открытого им автора: выгоняю корреспондентов, не даю интервью, не даюсь фото- и киносъёмкам. У него было ощущение, что он меня сотворил, вылепил и теперь всегда будет назначать за меня лучшие решения и вести по сияющему пути. Он так подразумевал (хотя ни разу я ему этого не обещал), что впредь ни одного важного шага я не буду делать без совета с ним и без его одобрения. Например, он сам взялся определить, какому фотографу я могу разрешить сфотографировать себя (фотограф оказался плох, но то, что мне нужно было - выражение замученное и печальное, мы изобразили). Подошла необходимость какой-то сжимок биографии всё-таки сообщить обо мне - А. Т. сам взял перо и стал эту биографию составлять. Я считал нужным указать в ней, за что я сидел - за порицательные суждения о Сталине, но Твардовский резко воспротивился, просто не допустил. (Он не знал, как это ещё сможет пригодиться, когда партия на своих инструктажах объявит меня изменником родины. Его взгляд больше охватывал настоящее, а будущего - почти никогда. К тому ж очень подслойны бывали истинные причины его внешних движений. Например, сам он долго верил в Сталина, и всякий уже тогда не веривший как бы оскорблял его сегодняшнего. Так он отклонил и моё объяснение, что Тверитинов может не любить Сталина из одной только тонкости вкуса. Как бы это мог тот не любить? - значит, либо сам сидел, либо его родственники, иначе А. Т. не принимал.)
Я не спешил бунтовать против его покровительства, не рвался доказывать, что к сорока четырём годам уж какой отлился, такой отлился. Но - не может быть подлинной дружбы без хотя бы признаваемого равенства. А. Т. преувеличивал соотношение наших кругозоров, целей, и жизненного опыта. Важнейшей частью своего опыта он считал хорошее знание иерархии, ходов заседательских, телефонных и закулисных. Но он преувеличивал охватность и долготу всей этой системы. Он не допускал, что эту систему можно не признать с порога. Он не допускал, что в литературе или политике я могу разглядеть или знать такое, чего не видит или не знает он.
У него была расположенность к покровительству молодым, не было способности объединяться с равными.
Со мной пережил он вспышку новой надежды, что вот нашёл себе друга. Но я не заблуждался в этом. Я полюбил и его мужицкий корень; и проступы его поэтической детскости, плохо защищённой вельможными навыками; и то особенное природное достоинство, которое проявлялось у него перед врагами, иногда - перед вышепоставленными (в лицо, - а по телефону чаще терялся), и оберегало его от смешных или ничтожных положений. Но слишком несхожи были прошлое моё и его, и слишком разное мы вывели оттуда. Ни разу и никогда я не мог быть с ним так откровенен и прост, как с десятками людей, отемнённых лагерной сенью. Ещё характеры наши как-то могли бы обталкиваться, обтираться, приноровляться - но не бывает дружбы мужской без сходства представлений, без зоркости и внимательности к другому.
Мы подобны были двум математическим кривым со своими особыми уравнениями. В каких-то точках они могут сблизиться, сойтись, иметь даже общую касательную, общую производную, - но их исконная первообразность неминуемо и скоро разведёт их по разным путям.
НА ПОВЕРХНОСТИ
Как глубоководная рыба, привыкшая к постоянному многоатмосферному внешнему давлению, - всплыв на поверхность, гибнет от недостатка давления, оттого, что слишком стало легко и она не может приспособиться, - так и я, пятнадцать лет благорассудно затаённый в глубинах лагеря, ссылки, подполья, никогда себя не открыв, никогда не допустив ни одной заметной ошибки в человеке или в деле, - выплыв на поверхность внезапной известности, чрезмерной многотрубной славы (у нас и ругать, и хвалить - всё через край), стал делать промах за промахом, совсем не понимая своего нового положения и новых возможностей.
Я не понимал степени своей приобретённой силы и, значит, степени дерзости, с которой могу теперь себя вести. Я сохранял инерцию осторожности, инерцию скрытности. И та и другая были нужны, это верно, потому что случайный прорыв с "Иваном Денисовичем" нисколько не примирял Систему со мной и не обещал никакого лёгкого движения дальше.
Не обещал движения, да, - но пока, короткое время, два месяца, нет, месяц один, я мог идти безостановно: холопски-непомерная реклама открыла мне на этот месяц все редакции, все театры!
А я не понимал... Я спешил сам остановиться, прежде чем меня остановят, снова прикрыться, притвориться, что ничего у меня нет, ничего я не намерен. Как будто возврат этот был возможен! Как будто теперь упустили бы меня из виду!
И ещё, за невольным торжеством напечатания я плохо оценивал, что мы с Твардовским не выиграли, а проиграли: потерян был год, год разгона, данного XXII-м съездом, и подъехали мы уже на последнем доплеске последней волны. По скромным подсчётам я клал себе по крайней мере полгода, а то и два года, пока передо мной заколотят все лазы и ворота. А у меня был один месяц - от первой хвалебной рецензии 18 ноября до кремлёвской встречи 17 декабря. И даже ещё меньше - до первой контратаки реакции 1 декабря (когда Хрущёва натравили в манеже на художников-модернистов, а задумано это было расширительно). Но и за две недели я мог бы захватить несколько плацдармов! объявить несколько названий моих вещей.