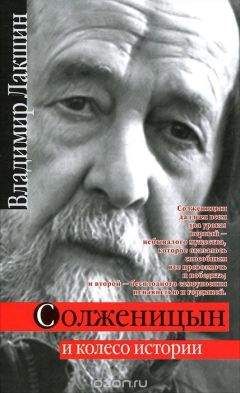Говорили что-то, но никто ничего существенного, потому что не имели другой цели, как угодить Главному редактору, и не хотели даже иметь собственного мнения, от него отличного. Когда-нибудь с удивлением изучит и узнает история литературы, что эта свободолюбивая, самая либеральная журнальная редакция в СССР в эти годы поношения культа личности Сталина содержалась внутри себя по культовому принципу. (И это не Твардовский так сложил, это само так сложилось в журнале, естественно, по подобию всякой части своему целому, это сложилось как во всяком учреждении, во всяком звене советской системы, - только именно здесь это выглядело вопиюще, а у Твардовского не хватило простоты и юмора заметить это и растеплить.) Но Дементьев-то сидел здесь, и он-то видел, что лопается обруч, что выбивается крышка. Александр Григорьевич Дементьев, кто в злом 1949 году не замялся на должности палача-парторга ленинградской писательской организации, а в хрущёвские времена стал комиссаром самого либерального журнала, - кем-то же и зачем-то же был послан сюда? - долею освежиться, долею очиститься - но и не пущатъ же! Перед теми, кем послан был он сюда на полставки, но с ответственностью двойной, не мог он теперь признать авторитет даже хрущёвского референта и поддаться благодушию всей редакции. Деловой человек, он не спорил тогда, в декабре 1961-го, когда все меня хвалили и ласкали: он-то знал, что повесть эта всё равно не будет напечатана.
Но сейчас, когда искажённым, незаконным ходом событий прорисовалось повести вырваться в свет - сейчас он должен был сделать всё, чтоб её исправить.
И куда же делось то лукаво-дружеское, то душевно-дружеское его выражение в приятном отклоне седеющей головы? И как ожестело его покоряюще-милое оканье! Как нарумянило его, как распалило, и до самых ушей! Одно только: он не вещал громом с Олимпа, а спорил, волнуясь, - волнуясь не выиграть, не убедить. Раскаты были только в самих формулировках - в коммунизме, в патриотизме, в материализме, в соцреализме. Воля бы Дементьева, он всю повесть мою сострогал бы под гладь, не осталось бы ни задоринки. Но уж тут надо было бить по ядру. И обвинил он меня, что я позорю знамя и символ советского искусства - "Броненосец Потёмкин", и весь разговор о нём надо снять. А ещё надо снять разговор Шухова с Алёшкой о Боге - потому что он художественно совсем невыразительный, а идеологически неправильный, и длинный слишком, и только портит хорошую повесть. А ещё не должен автор уклоняться от политически точной оценки бендеровцев, даже в их лагерном существовании, ибо они запачканы кровью наших советских людей. А ещё... Да оказывается, он на рукописи сделал много пометок и может мне их конкретно показать, только рукопись мою забыл дома.
Распалённым яростным кабаном выглядел Дементьев к концу своего монолога, и положить бы сейчас перед ним полтораста страниц моей повести он бы, кажется, клыками их разметал.
А Твардовский молчал. Ещё бы не верно! очень верно рассуждал политический комиссар, он хотел из моей аморфной повести выковать оружие соцреализма - и что же мог возражать ему главный редактор? Он не мог ему возражать, но он почему-то молчал. Он не поддержал его ни кивком, ни бровью. И ожидательно на меня смотрел. Если б я уступил, значит так бы и было.
Однако - перебрал Дементьев! При своём несомненном и быстром уме совсем он не знал породы зэков, племенного нашего закала. Выражайся он осторожно, требуй он маленьких, но гадких уступочек, достаточно портящих вещь, - я бы это всё записал, а потом вперемежку с требованиями хрущёвского эксперта обдумал и наверно что-нибудь бы испортил. Но перед напирающими обозленными глазами я ответил без колебания, без труда, совсем не задумываясь, насколько это выгодно. Перед моими зеками, перед моими братьями, перед экибастузской голодовкой, перед кенгирским мятежом мне стыдно и отвратно стало, что я ещё обсуждаю тут с ними что-то, что я серьёзно мог думать, будто литераторы с красными книжечками даже после XXII съезда способны напечатать слово правды.
- Десять лет я ждал, - ответил я освобождение, - и могу ещё десять лет подождать. Я не тороплюсь. Моя жизнь от литературы не зависит. Верните мне рукопись, я уеду.
Тут вмешался переполошённый Твардовский:
- Да вы ничего не должны! Всё - на ваше доброе усмотрение, что сказано было сегодня. Но просто всем нам очень хочется, чтобы рукопись прошла.
И - не спорил больше Дементьев! Он стих. Он смяк. Он дошёл до того упора, где обрывалось его влияние на Главного. Дальше он не мог рисковать.
И тут же потребовалось мне ехать... именно к нему домой - забирать основной экземпляр. Как он переменился, как он стал дружественен! Да разве это он полчаса назад так разгорячённо шёл на меня, стуча копытами? Вдруг он предложил мне... свою квартиру для работы. Вдруг, совсем позабыв ту терминологию раскатистых -измов, он какими-то смутными намёками стал искать у меня понимание. Э-э, не из куска чугуна был этот комиссар. Он кажется был за перегородками многими, и за каждой следующей всё грустней. (Кстати, слышал я потом, что он происходил из богатой купеческой семьи; по возрасту должен был тот быт ещё захватить. Из опасений ли анкетных он так выпирал в ортодоксальность? Бывает. Ведь и Софронов кажется...)
И остался я перед своей повестью опять. Я-то знал, чего не знала редакция: что это совсем не истинный вариант, что здесь уже было и трогано, и стрижено, совсем это не целокупная недотрога, моя повесть. Где начато, можно и продолжать. Заряду хватит здесь и после отбавки. Но дурным казалось мне такое начало литературного пути: уступать, как и все они. Отчётливо помню, что для себя мне было в этот момент ничего бы лучше не исправлять, а - чёрт с ними, пусть не печатают. Однако, глупо было не попробовать вовсе. Ослабленное на полпроцента, на три четверти процента (так по значению и объёму весило то, что решил я Лебедеву и "Новому миру" уступить) - как это всё-таки будет разить в напечатанном виде! Нет, попробовать стоило.
Если вникнуть, то требования Лебедева даже поражали своей незначительностью. Они ничего не трогали в повести главного. Самые отчаянные места, которые, сердце сжав, я пожалуй бы и уступил, были им обойдены, как будто не замечены. Да что ж это за таинственный либерал там, наверху, в первой близости к первому секретарю ЦК? Как он пробрался туда? Как держится? Какая у него программа? Ведь надо ему помочь!
Главное, чего требовал Лебедев - убрать все те места, в которых кавторанг представлялся фигурой комической (по мерке Ивана Денисовича), как и был он задуман, и подчеркнуть партийность кавторанга (надо же иметь "положительного героя"!). Это казалось мне наименьшей из жертв. Убрал я комическое, осталось как будто "героическое", но "недостаточно раскрытое", как находили потом критики. Немного вздут оказывался теперь протест кавторанга на разводе (замысел был - что протест смешон), однако картины лагеря это, пожалуй, не нарушало. Потом надо было реже употреблять слово "попки", снизил я с семи до трёх; пореже - "гад" и "гады" о начальстве (было у меня густовато); и чтоб хоть не автор, но кавторанг осудил бы бандеровцев (придал я такую фразу кавторангу, однако в отдельном издании потом выкинул: кавторангу она была естественна, но их-то слишком густо поносили и без того). Ещё - присочинить зэкам какую-нибудь надежду на свободу (но этого я сделать не мог.) И, самое смешное для меня, ненавистника Сталина, - хоть один раз назвать Сталина как виновника бедствий. (И действительно - он ни разу никем не был в повести упомянут! Это не случайно, конечно, у меня вышло.) Я сделал эту уступку: упомянул "батьку усатого" один раз...
Внёс я исправления, уехал из Москвы, и снова начался для меня период полной затиши и темноты. Снова всё пришло в неподвижное прежнее состояние, как будто движение повести никогда не начиналось, как будто это всё сон. Лишь в конце сентября и то под большим секретом, от Берзер, узнал я, как развивались дела. На даче в Пицунде Лебедев стал читать Хрущёву вслух (сам Никита вообще читать не любил, образование старался черпать из фильмов). Никита хорошо слушал эту забавную повесть, где нужно смеялся, где нужно ахал и крякал, а со средины потребовал позвать Микояна, слушать вместе. Всё было одобрено до конца, и особенно понравилась, конечно, сцена труда, "как Иван Денисович раствор бережёт" (это Хрущёв потом и на кремлевской встрече говорил). Микоян Хрущёву не возразил, судьба повести в этом домашнем чтении и была решена. Однако, Хрущёв хотел всё обставить демократично.
Недели через две, когда уже вернулся он из отпуска в Москву, получил "Новый мир" среди дня распоряжение из ЦК: к утру представить не много не мало - 23 экземпляра повести. А в редакции их было три. Напечатать на машинке? Невозможно успеть! Стало быть, надо пустить в набор. Заняли несколько наборных машин типографии "Известий", раздали наборщикам куски повести, и те набирали в полном недоумении. Так же по кускам и корректоры "Нового мира" проверяли ночью, в отчаянии от необычных слов, необычной расстановки и дивясь содержанию. А потом переплётчик в предутреннюю вахту переплёл все 25 в синий картон "Нового мира", и утром, как если б труда это не составило никому никакого, 23 экземпляра было представлено в ЦК, а типографские наборы упрятаны в спецхранение, под замок. Хрущёв велел раздать экземпляры ведущим партвождям, а сам поехал налаживать сельское хозяйство Средней Азии.