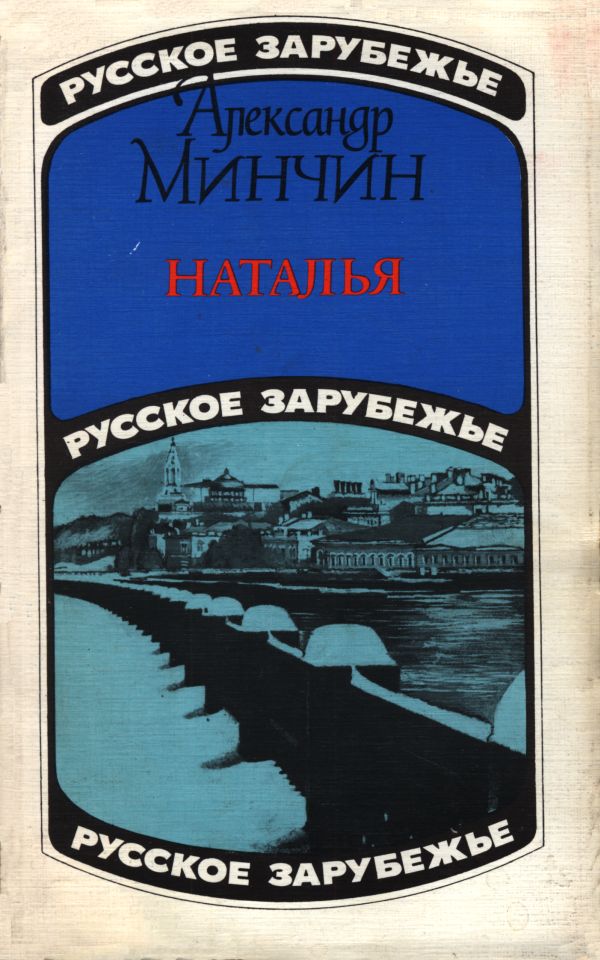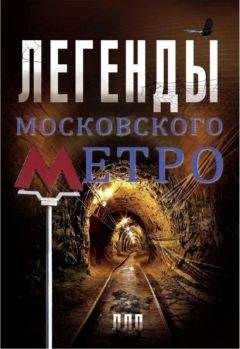спрашивает:
— Такое чувство, что волосы шевелятся, есть?
— Да, — говорю, — есть.
Приятное очень чувство.
— Тогда давай закурим еще. Самый раз.
Мы закуриваем с ним по новой. Из ее сигарет. И тут я срываюсь, не выдержав, — бегу по снегу к автомату. Полрубля забыты в кармане пиджака. Кто-то добрый дает двушку. Рука почему-то дрожит, набираю номер… Первый гудок с прерыванием, остальные без — нормальные. Она должна подойти к телефону. Она не может не подойти к телефону. Она обязательно подойдет к телефону. Я так хочу. Она…
— Да… Алло!..
— Простите… я звоню по поводу обмена квартиры.
Из трубки еле слышно доносится музыка. Она, кажется, улыбается и весела.
— Я бы с удовольствием обменялась, да не с кем… — она смеется и говорит: — Вы ошиблись номером, молодой человек. — Отбой, гудки.
Я несусь, окрыленный, назад, едва не сбиваю незамеченную старуху. Я рад, что ей весело, я счастлив, что она подошла к телефону. Что этот телефон — ее.
— Сумасшедший, ты куда бегал по такому холоду раздетый? — спрашивает ожидающий меня в тоске Павел.
Я быстро сбрасываю все, поворачиваюсь к нему и говорю:
— Поддадим! — говорю. — Ты как, готов?!
Он расплывается неописуемой улыбкой:
— Всегда готов.
Мы держим с ним стаканы с хересом (какая же все-таки дрянь — отечественный херес) и сидим на кухне, на полу. Чокаемся и выпиваем. Тишина, никто не мешает, день рождения проистекает где-то там, вдали. Павла хорошо подразвезло, и он говорит мне:
— Видишь, ты теперь веселый и радостный, это все после допинга! Очень хорошая вещь.
При чем тут допинг?!
— Ты ипохондрик, как и я, — продолжает Павел. — И поэтому… я люблю тебя больше всех на свете! Дай я тебя поцелую, — он наклоняется и целует меня.
И я верю, что сейчас он любит меня больше всех на свете. И говорит это от души. Я тоже люблю его сейчас… но не больше… впрочем, это не любовь.
— Я тебе, Са, обещал подарить карты с голыми бабами, бери. Диски обещал дать послушать, забирай навсегда. Флаг американский на стене нравится — сворачивай. Все забирай. На, вот тебе еще флакон этого, про запас. А то аптеки сейчас закрыты.
— Да что ты?! А я собирался сейчас бежать.
Я машинально засовываю пузырек в вельвет джинсов.
— Нет, они закрыты. И вообще, — не унимается он, — давай выбросимся из окна. — (Раз, два и выбросились!)
Я привык уже ничему не удивляться.
— Давай, — соглашаюсь я.
— И дадим! — уверяет меня Павел.
— Мой знакомый три дня назад выбросился с восьмого этажа в МГУ, со мной учился. А чтоб не передумать, поставил стол к окну, разбежался и прыгнул. Оставил записку: «Зачем мне эта жизнь?»
— А правда, скажи, зачем нам эта жизнь?
Я подумал-подумал и не смог ответить.
— Осточертело все. Надо выбрасываться. Сейчас.
Я киваю головой в знак согласия.
Павел поднимается с пола, идет к окну, дергает и открывает его. Воздух ночи, снега и мороза вплывает и разносится по комнате. Он тем временем, не спеша, но в то же время проворно и всерьез, перекидывает одну ногу на улицу, через подоконник — на воздух. Я о чем-то думаю, потом не спеша раскрываю рот и говорю:
— Может, не надо прыгать, а, Павел?
— Нет, прыгну, но только с тобой. Иди сюда, выбросимся вместе.
Я встаю и подхожу к нему.
Он сильно сгребает меня и тянет за собой туда, где его нога, наружу. Все это длится примерно минуту. Потом то ли инстинкт самосохранения, то ли еще какие-то фрейдовские дела охлаждают меня, и я говорю Павлу, по-прежнему рвущемуся вперед, то есть вниз:
— Ведь не разобьемся: четвертый этаж только, жаль. А так выброситься совсем не сложно. Ты меня понимаешь, Павел?
А перспектива предстать перед ней калекой и вовсе меня успокаивает. Как машинист локомотив…
Я повторяю, втолковывая Павлу, что этаж только четвертый, а не восьмой, как у того из МГУ. Он думает немного и, согласившись, забирает свою ногу назад, будь она счастлива.
Мы снова усаживаемся на пол и дружно (как будто уже выбросились) закуриваем, каждый довольный своему. Я — тому, что увижу Наталью не калекой, Павел чему-то известному ему одному.
Не успели мы выкурить по сигарете, как на сцене появился военный. (Те же, явление второе, и военный.) Павел громко шепчет мне на ухо:
— Он в управлении работает, не болтай лишнего.
— Что ж ты нас не знакомишь? — замусоленно начинает военный, кажется лейтенантик. Боря, брат, тоже был после института два года лейтом. С благодарностью не вспоминает прошлые годы.
— Это Саша, — бурчит Павел, который уже был там, за гранью самоубийства, да не вовремя остановили. Потом он мне представляет того. Я так и не словил его имени. Вообще ненавижу пустые, никчемно-ненужные знакомства.
Лейтенантик начинает нести какую-то галиматью, точнее, х… Перебиваю его и говорю, что хочу в туалет. Иду в туалет и сижу там долго-долго. Потом дергаю для правдивости болваночку на цепочке и выбираюсь оттуда.
Военный ждет меня, улыбаясь. Не обиделся, странно. Оказывается, он не такой уж глупый мужик, разбирается в разных вопросах, которые, казалось бы, никакого отношения к его службе не имеют. А может, и наоборот — имеют…
Попутно жалуюсь ему, какая идиотская у нас военная кафедра, самая поганая во всей Москве. До чего там тошно и хреново, даже Буденный, Сёма, не знает. Он сочувствует мне, военный. (А может, он и не Сёма, Буденный-то? Но хрен его знает, страна не знает своих героев, тем более какой он там герой — жопу Сталину лизал, впрочем, сами пускай разбираются, там у них — черт голову сломит.) Военный еще что-то говорит. Но я устал от всего. Хочу быть только с ней, других желаний нет. Нет, и все тут. Запропавший Павел, как бумеранг, возвращается и прерывает наш разговор, таща стаканы. В одном из них, чудом раздобытое, случайно уцелевшее, шампанское Саше. Говорит, что любит только меня… Выпиваем, обнимаемся. Время позднее. Уже завтрашний день наступил. Ира вспоминает, что я еще (как ни странно) существую, ужасаясь, что я не пробовал ее «наполеона», собственноручного приготовления. Я киваю.
Павел до того отключился в своей любви ко мне, что забывает предложить мне остаться ночевать. (Эх, а с утра я так надеялся на завтрачек, они прекрасны, эти завтрашние завтраки с остатками самого вкусного, многого, разного!..) (Самому напоминать как-то неудобно. Одеваюсь, расцеловываюсь с ними и выхожу на улицу. Воздух чудный — свежий, морозный. Пар клубами валит изо рта.
В кармане что-то около пятидесяти копеек. «Мотор» нас уже не повезет, и