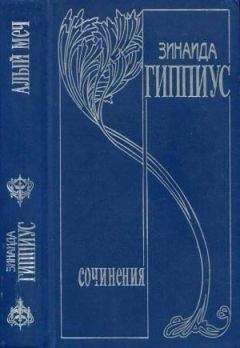Веселые, бойкие, сильные и задорные – тоже чрезвычайно нравились, некоторые. Но эти были ему как Вера. Необходимые – и совершенно известные, точно собственная рука. И тоже дружил, еще больше, – но ведь и это не то!
Так и не был влюблен. Вера говорила, что тоже не была, но что она тут чего-то не понимает, а потом непременно будет влюбляться, только замуж не выйдет. И Владю жалела, и очень ему советовала постараться. Он старше, на его месте она бы не так…
Оттого, что солнце грело резкий, еще не летний воздух, оттого, что трава была яркая-преяркая, с желтыми, улыбающимися цветами, оттого, что прямые, как девушки, березки за ручьем трепетали, только что одетые, – Владя перестал думать определенно даже о Вере, даже о себе, а только дышал, на небо глядел, и ему было не скучно.
Весь парк исходил.
– В лес сегодня не пойду. Сыро еще, должно быть.
И просидел вечер на круглом балконе, откуда речку видно, лес вдалеке, за который солнце спускается.
Главное то, что ни один день не был похож на другой. Все двигалось на глазах, менялось чудесно. Каждое утро березы шумели другими шумами, потому что делались гуще. Каждую ночь коростель ручьевой кричал иначе, веселее и настойчивее. Кукушка закуковала совсем близко вчера; а когда Владя шел по полю, сняв шляпу, ветер ласкал его голову сегодня горячее, был пахучее и нежнее.
От вечера до утра все менялось. Темные твердые почки сиреневые прямо лезли теперь в окно столовой вместе с разросшимися ветвями. А около старой бани, у речки, у мостика, где белье полощут, – как все изменилось! По воде ряска уж залегла, и незабудки на болотце заголубели.
Владя мальчиком любил это место, около бани. Потом забыл, а теперь почему-то опять ходит, сидит на банной приступке или на траве, на солнышке, лежит.
Вчера на мостике Маврушка белье полоскала. Смеялась. Она – славная девка, сапоги ему утром чистит, иногда, вместо Катерины, самовар подает. Веселая, а болтать без конца не любит, как Катерина.
Владя теперь, в почти жаркий, томный полдень, лежа в траве под разомлевшими елями (сейчас за баней и парк-лес начинается) – слышит, как кто-то поет вдали, на усадебном дворе. Это Маврушка поет, – верно, стирает что-нибудь в корыте и поет.
Не визгливо, хорошо, а издали еще лучше, и шорохам лесным и травным не мешает.
Владе не скучно, но как-то не то жарко, не то беспокойно сегодня с самого утра, с самой ночи. И даже не сегодня только, а уж давно, кажется. Он весь, точно ель эта, разомлевшая на солнце; пахучая, темная, а на каждой веточке у нее бледный новенький приросток. И не движется она, а кажется, что вся насторожилась и тихонько-тихонько дышит.
Владя перевернулся на живот, и близко перед ним трава. Ну, уж вот эта-то прямо шевелится, и короткая и длинная. Может – растет, а может, там, у самой земли, от которой так густо, влажно и жарко пахнет ее телом земным, бродят муравьи, жуки и кузнечики, дышат и стебли шевелят.
Волна какая-то одна ходит и колеблется, сияющая, душистая и тяжелая; не поймешь – от солнца ли она к земле идет, от земли ли она к солнцу поднимается. Владе стало совсем томно и приятно-тошно, и приятно плакать захотелось о себе, – так было хорошо, и чувствовалось, что делать что-то надо, а делать было нечего.
Подумалось, конечно: вот бы влюбленным теперь быть! Но попробовал вспомнить любовные стихи – и не понравилось. Постарался припомнить барышню, из тех, какие ему нравились, – ничего не вышло. Он перевернулся на спину и стал глядеть вверх, без всяких мыслей словами.
И почему-то настойчиво и глупо, и совсем некстати, ему стал видеться их класс гимназический, во время митинга, и Кременчугов из восьмого класса на кафедре, и говорит речь. О чем он говорит – Владя не знает; он только видит смуглое лицо с пятнами молодого румянца, черные брови над блестящими глазами и замечает, как губы двигаются, особенно верхняя, над которой чуть темнеют усы.
«Вот этот ничего не побоится! – мелькает отрывочно у Влади в голове. – Он от директора, как от стоячего, ушел. Большое плавание такому кораблю. Все у нас так думают. Сильный-то какой, милый какой!»
И Владя не завидовал Кременчугову, а лишь восхищался им, радовался ему, как никогда; томился им. Только удивительно было, с чего вдруг теперь, в траве, в полдень, Кременчугов вспомнился, когда уж давно не вспоминался.
«А Вере Кременчугов не так нравится», – подумалось было ему – и вдруг все прервалось.
Владя вскочил, растерянный, взъерошенный, и сел. Перед ним, совсем над ним, стояла Маврушка и хохотала.
– Чего ты? – спросил он недовольно и неприязненно. Он не слышал шагов ее босых ног по траве. На плече у нее была кучка мокрого белья, красное ситцевое платье было высоко подоткнуто. Владя близко-близко видел ее смуглые, крепкие и стройные икры, чуть отливающие золотом на солнце. Снизу вверх глядел на ее смеющееся широкое лицо. Глаза, карие, сузились, ресницы сблизились; красивые брови разлетом едва видны ему снизу. Очень смешная она сама снизу.
– Чего ты стоишь и хохочешь? – спросил он, тоже начиная улыбаться.
– Да ничего. Очень уж вы все валяетесь. Глаза закрыли, а не спите.
Она говорила не дичась, очень просто.
– А ты на речку?
– На речку, да не волк, – не убежит. Я нынче что было – все перестирала. А вам не скучно эдак, одному да одному, да по траве валяться?
– Посиди со мной, – сказал вдруг Владя неожиданно и даже потянул ее вниз за юбку.
Что это он фамильярничает? Это еще что? Она еще вообразит гадость какую-нибудь. Или удивится.
Но Маврушка нисколько не удивилась, а тотчас же хлопнулась на траву рядом с Владей.
На лице у нее заиграли и задрожали тени солнечные, и лицо сделалось не такое смешное, но зато красивее. Круглая щека, крепкая и розовая, с золотистым пушным налетом, совсем почти касалась Владиного плеча.
– А вот я в нашем городу у доктора в няньках цельную зиму жила, – сказала Маврушка. – Так там тоже ихний гимназист приезжал. Хорошенький тоже, вот как вы. А только и хитрый же! Уж один, бывало, не сидит, нет!..
Владя густо покраснел и сказал строгим голосом, чтоб переменить разговор:
– А ты замуж идешь, Мавруша?
– Замуж. Небось, пойдешь, коли эдакий сватается. Мельница у него своя. Да черт его, старика краснорожего! Разве я его люблю, что ли? Тут-то мне и покрасоваться, напоследях. Старик что? Вонючий и вонючий. А вы вон барин, какой молоденький, да словно дитенок прячетесь, один да один по лесу, небось – скучно… Поиграть уж нельзя с вами…
Говоря, как-то незаметно, и цепко, и грубовато обхватила его, а потом вдруг взяла да и поцеловала в щеку, около уха.
Владя оцепенел. Куда же это повернулось? Что он чувствует? И что ему делать? Вместе – от робости, от вежливости и от полулюбопытства и полунеги, невольной, лесной, горячей и беспокойной – он совершенно оцепенел.
А Мавруша шептала ему прямо в ухо:
– Ой, барин, да и какой же вы молоденький! Я сразу, как увидела вас, так вы мне и понравились. А мне теперь-то и покрасоваться. Ну, его, старика моего, чтоб ему на том свете…
И она поцеловала Владю на этот раз прямо в губы, и так крепко, что он не удержался, сидя, и упал навзничь на траву. Все перед ним завертелось, глаза закрыл на минуту, – зеленые разводы заплясали перед глазами, а Маврушка опять его поцеловала, и он ее, кажется, тоже. Пахло от нее солнцем, человеком и мокрым бельем, и захотелось схватить ее и, не то сначала задушить и потом отшвырнуть, не то прямо отшвырнуть подальше.
Но не тронул, а поднялся, опять сел, с усилием взглянул на нее и с красными, как мак, ушами, пробормотал:
– Как тебе не стыдно?
А Маврушка опять зашептала, не выпуская его:
– Чего стыдно? Чего стыдно, глупенький? Ты лучше приходи сюда, к бане, вечером, как спать полягут. Что одному-то? Придешь, кудрявенький? А? Придешь?
– Приду, – сказал Владя неожиданно для себя, и не своим, а немного чужим голосом.
Маврушка радостно вскочила, подхватила кучку своего белья и на прощанье хлопнула Владю по плечу.
– Ну, так-то ладно!
Но вдруг присмирела сразу и опять наклонилась к нему, и тихонько сказала:
– Ты не подумай, я не какая-нибудь. Очень жалко мне тебя стало. Вижу, молоденький такой, хорошенький сам… А мне последние денечки…
Закраснелась, застыдилась, чуть не слезы на глазах.
– А то и не приходи. Не надо.
– Нет, я приду, – настойчиво повторил Владя.
Она еще постояла, ничего не говоря, и пошла прочь, шурша по траве босыми ногами.
IV Она
Такая растерянность захватила Владю, что он и не помнит, что делал целый день.
Когда вечером Катерина самовар подала и что-то болтала (что – не вслушался) – Владя уже решил, что надо идти непременно. Пытался рассуждать трезво и просто.
«Ну, что ж, это пол. Это сама жизнь. Это природа. Нельзя же вечно отвертываться от жизни. Чтобы возвыситься над нею – надо ее знать. Иначе все книжная отвлеченность…»