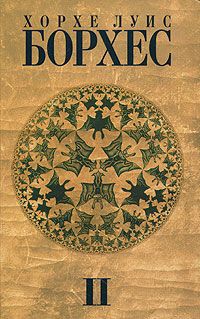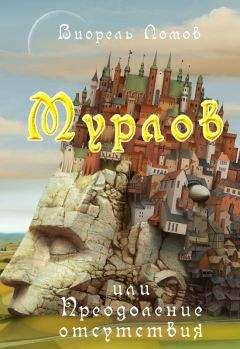воздуха. Юноша был бы смешон, если бы не природная элегантность, худощавое бледное лицо с серьезным выражением и лихорадочно блестящие глаза. Он легко подбежал к остановившемуся трамваю и вскочил на подножку. Сливинский поспешил следом. В трамвае он стал неназойливо разглядывать юношу, стоявшего рядом. Тот скользнул по Сливинскому рассеянным взглядом и отрешенно уставился в какую-то точку. Казалось, эта точка заменила ему весь мир – так сильно приковала она его внимание. Сливинский мучительно вспоминал, где же он встречал этого молодого человека? И не мог вспомнить. Что он знает его – сомнений не было, но кто он – вспомнить не мог. Сливинскому стало досадно вдвойне, так как зрительная память на лица у него была превосходная. Через несколько остановок молодой человек встрепенулся, оторвался от своей точки и выскочил из трамвая. Сливинский безотчетно последовал за ним, так же безотчетно посмотрев на то место, где была та самая точка – там было пыльное стекло и больше ничего.
Купив на углу тюльпаны, юноша свернул в сквер за почтой. Навстречу ему почти бегом приближалась девушка. Девушка улыбалась, она была мила и счастлива. Сливинского укололо в сердце. Ему вдруг показалось, что девушка спешила к нему, а не к этому юноше, но в последний момент передумала. Да, он знал эту девушку, он ее помнил, но не знал, кто она и как ее зовут. Девушка скользнула по нему взглядом, взяла молодого человека под руку, и они тихо пошли прочь, глядя под ноги и о чем-то беседуя.
Взгляд порой, как плоский камень по воде, скользит по человеческим лицам, прыгая от одного к другому, пока не утонет в чьих-то глазах. Взгляд Сливинского канул в глазах девушки, а ее взгляд отразился от его лица и утонул в очах ее спутника.
«Боже ж ты мой, ведь это Ирина! – с ужасом подумал Сливинский. – А этот юноша – я сам…»
Сливинский медленно брел весенним сквером, а вокруг него ожидание сгустилось настолько, что готово было лопнуть и затопить все светом и теплом. «И как я мог подумать, что я несчастен? – думал Сливинский. – Вот же я, счастливый, молодой, полный надежд, целеустремленный. И ведь это длилось не час, не день, не месяц, это длилось почти два года. Неужели память настолько неблагородна и неблагодарна, что целиком похерила всю эту весеннюю роскошь ожидания?»
Сливинский долго смотрел в одну точку своего окна в кабинете, совсем как тот полузабытый юноша, которого, наверное, и вспоминать-то некому.
«Да, моя популярность стала многим поперек горла, как кость. Разложим-ка пасьянс из моих человеческих и общественных слабостей, пока этого не сделали другие. А может, уже давно разложили да и в кучу смели? Направление у института очень перспективное, но требует больших затрат, больших проработок, больших капвложений, длительной экспериментальной проверки. Это слабость первая. Кадры у меня отличные. Действительно решают все, и решают сами. Кому же еще решать задачи, как не кадрам? Но… Персональные оклады, надбавки, жилье. Как еще переманишь и заманишь технарей, спецов и ученых? Это слабость вторая. Теперь эти ТРД и конская упряжь. Пустячок, конечно, но кому-то будет приятно. Это третья – не слабость, а добавочка. Что ж, вполне хватит, чтобы попереть за развал, злоупотребление, и прочее, прочее…
Не учел еще Сливинский двусмысленности своего семейного положения, о котором знали достаточно хорошо многие: жена где-то в Москве, сам позволяет себе всякие лирические отступления… Фигли-мигли, понимаешь!
Но и не это было главное. Не учел, к сожалению, Василий Николаевич своего особенного положения в институте. Во всем житейском покладистый, отзывчивый, демократичный, с неизбывным чувством юмора и оптимизма, он был кремень во всем, что касалось центральной идеи его научной деятельности. «За свою идею я один в ответе, поэтому каждый пусть занимается своим маленьким, но необходимым разделом, – опять вспомнил Василий Николаевич о разделе земли и неба и прочей чепухе, одолевающей в минуты безделья. – Обсуждать я ничего и ни с кем не собираюсь, все беру на себя. У нас нет времени на дискуссии, на всю эту размазню. В дискуссиях погиб мир. В согласованиях гибнут цивилизации». Примерно так красиво и глобально отсеивал он на всех конференциях и заседаниях Ученого совета предложения многих маститых, как они себя считали, ученых. Сливинского достало слово «маститые», и он как-то не совсем удачно пошутил на реплику сверху, что у него в институте действительно работают маститые ученые: «Да, действительно, у многих из них мастит послеродового периода, но у них трещины не на груди, а на заднице». Такие шутки не прощают.
В самом деле, идея сверхзвукового пассажирского самолета на каком-то «засекреченном» топливе была выношена им, и ему нужны были скорее ученые-повитухи, а не научный консилиум с демагогическим уклоном в мир собственных забот. Ему некогда было заниматься всей этой трепологией. Рабочий день начинался у него со стремительного обхода отделов, лабораторий, опытных цехов и участков. За ним размазывался на полсотни метров шлейф не поспевающих замов, помов, начотделов, начлабов, всех прочих, кому на сегодня грозило внушение. Сливинский мог мгновенно разобраться в ситуации, поскольку сам их создавал, тут же принять решение, тут же взвалить на себя, как мешок, любую ответственность. О нем появилась пара заметок в уважаемой периферией центральной печати, его портрет с интервью попал в уважаемый даже центром журнал «Америка». Весь этот шлейф ученых находился в несколько напряженном состоянии: в нем и впрямь были очень известные ученые, люди со связями, порой даже родственными; с амбициями, способными украсить Цезаря; привыкшие делать сами выводы, а не только давать предложения. И вот к этим-то людям отношение было, мягко говоря, порой очень странное, точно это не доктор наук, а студент-второкурсник подает какое-то наивное предложение в рамках НИРСа (научно-исследовательской работы студентов). Не вина их, а беда, что количество ученых во много раз превышало количество институтов, в которых каждый из них мог властвовать безраздельно, не хуже Сливинского. Они полагали, что главное в работе – это власть. Видно, поэтому и размазывались в шлейфе.
Эта слабость и была самой сильной.
На последней научной конференции обозленный Сливинский (это было заметно по отточенным фразам, которые он бросал в зал, как выпады рапиры; а еще лучше – как перчатки; а еще точнее – как пощечины) не позволил товарищу из Москвы погладить себя ни по шерстке, ни против шерстки. У посланца просто-напросто не хватило самого обычного интеллекта, что было в тот момент как-то особенно заметно и с мест, и с трибуны. Словом, Сливинский не стал ломать комедию, а пошел ва-банк и заявил, что ему не