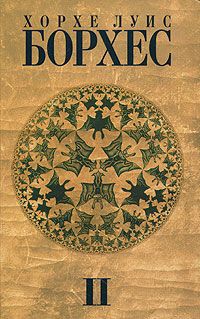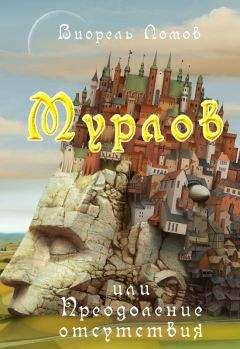вполне ясна ответственная роль некоторых безответственных товарищей-господ: вместо того, чтобы помогать в том, о чем их годами просят, они суют свой нос туда, где им дела никакого нет и в чем они ни бельмеса не смыслят. «Ну как может товарищ из комитета, где все идет черепашьим ходом, разобраться в сверхзвуковых скоростях!» В президиуме переглянулись. В зале прошел шумок. У многих потеплел и поумнел взгляд, которым они стали разглядывать своих коллег, – вдруг кто-то из них уже на пути вверх? Так опадают листья перед зимой.
А в перерыве Сливинский нечаянно уронил москвича в небольшой бассейн посреди холла Дома ученых, рядом с рестораном, откуда уже доносились звуки подготавливаемого ужина на сорок пять персон. Гость неуклюже барахтался под склонившимися к воде узкими пальмовыми листьями, и никто ему целую минуту не подавал руки. Нет, подал руку подскочивший заместитель Сливинского – Буров. Официанты с любопытством выглядывали из ресторана. Давненько не купались тут у них под пальмами. Кто-то пошутил: «Жаль, крокодила нет».
***
Через месяц Сливинскому предложили передать институт Бурову, а самому взять на выбор кафедру в авиационном институте или отдел в подмосковном городке. Сливинский съездил в Москву, но безрезультатно, помимо науки и техники от него, оказывается, пострадала и идеология сверхзвуковых скоростей. Как тогда, после войны, Сливинский взял от науки полный расчет и укатил, по слухам, куда-то на север. Говорили, шоферил на дальних рейсах. Близорукие часто оказываются дальнобойщиками. Шофер он был отменный, словом, работяга, на которых земля российская держится из последних сил.
Фаине дали однокомнатную на Стрельбищенском жилмассиве, а в коттедж въехал Буров с румынской мебелью и мускулистым, черным, как негр, лоснящимся догом. От отца пришла на Новый год открытка (до этого он звонил несколько раз, когда бывал в более-менее обжитых местах). «Здесь север, – писал он. – Почти по Джеку Лондону, только с азиатским клопами. Пьют. Играют в карты. Работают столько, сколько позволяет мороз. Дружны, но умрешь – отправят самолетом и тут же забудут. Тут иначе нельзя. Обрел друга, бывшего таксиста из Темрюка. Занесло же! Учит меня жить. Оказывается, это самая абстрактная и в принципе не постижимая наука. Лобзаю. Батюшка.
P.S. Нужен твой совет. Приехала Раиса. Бросила море (!). Бросила квартиру и прописку (!!). Бросила мужа (!!!). Спасибо.
P.Р.S. С Новым годом!»
Через полтора года от Бурова разбежались все бывшие аспиранты Сливинского, кроме Гвазавы. Первым ушел Каргин. Вроде бы тоже, как и его шеф, подался на север. Разбежались стеклодувы, кудесники по металлу и дереву, экспериментаторы и теоретики, которые могли творчески работать только с допингом в лице Сливинского, даже поварихам стало скучно и они перешли в другие столовки. Ученый совет стал выяснять, сколько ангелов сидит на конце иглы. Когда магнит слаб и невидимое магнитное поле исчезает, когда происходит вульгарная материализация идеи, никакие планы, никакие совещания, никакие посулы, премии и коллективные договора не удержат того, что имеет хоть какой-то маломальский физический материальный вес. Про духовное не говорим.
***
Институту сменили направление. Подкинули денег. Обосновали штаты. Бурова предупредили, но оставили. Он был удобен. И шею подставит, и руку подаст. Пять-семь лет можно было делать то, что делалось бы и без всякой великой идеи, целую пятилетку можно было коптить небо.
Мурлову у Бурова ловить было нечего, да и просто муторно было ходить в институт, как на службу, где в кабинетах и на лестницах витал еще дух Сливинского и нет-нет да появлялся легкий призрак Фаины. Да и вообще как-то удивительно быстро сварливо-добродушная атмосфера сменилась на лениво-равнодушную обстановку. Перчик остался и еще больше стал удивляться всему, поскольку стал ко всему совершенно равнодушен.
Неожиданно для себя Мурлов, как лейтенант запаса, изъявил желание идти на два года в армию, за что, естественно, ухватились в военкомате. Когда на медкомиссии в холодном длинном кабинете у раздетого Мурлова спросили: «На что жалуетесь?» – и он ответил: «На холод», – его хлопнули по плечу и бодро сказали: «Годен!»
Последний раз зайдя в столовку, над которой когда-то так красиво и мощно фиолетовое небо разверзлось громадной лиловой молнией, осветившей Мурлову всю его жизнь, он, сидя за столом с двумя сотрудниками Сосыхи, услышал, что бывший директор уехал то ли в Австралию, то ли в село агрономом, на что последовал комментарий ученого недоумка: «Диоклетиан!»
Глава 32. Воскресный семейный обед с отвертками и борщом
За три года у Мурловых родилось два ребенка. Дочурку назвали Машей, а сынишку Колей. Манюся, сколько помнили ее, все играла в куколки, рисовала и любила слушать, а потом и сама читать сказки. Рот у нее был постоянно раскрыт до ушей. Колянчик же, как встал с четверенек на ноги, так стал сущим бесенком. Первые три года каждую минуту ждали, что или с ним приключится беда, или в беду ввергнется весь дом. Старший же, Димка, не по годам был рассудительный и цепкий, учителя прочили ему блестящее будущее, и у родителей лишний раз не болела голова.
Денег катастрофически не хватало, и если бы Мурлов регулярно не подрабатывал, где придется, когда придется и с кем придется, нельзя было бы свести концы с концами. Этот не облагаемый налогами приработок повышал уровень благосостояния их семьи довольно ощутимо, но, разумеется, не кардинально.
– В Америке я давно бы уже был миллионером и кровопийцей рабочего класса, – говорил Мурлов. – Там, наверное, никто так не работает.
– Не так, а столько, – поправляла Наташа.
Родители Наташи на старости лет необдуманно поменяли трехкомнатную квартиру в райцентре на двухкомнатную в соседнем от Мурловых доме, что было для среднего поколения, конечно же, очень удобно. Наташин брат Петр изредка привозил дочку, а еще чаще Анюта приезжала сама, Наталья же забрасывала к матери десант чуть ли не ежедневно. Димка хлопот особых не доставлял, он не вылезал из книг, а тихоня Манюся одна могла за день свести бабушку с ума одними только расспросами о героях народных сказок. О Колянчике вообще разговор особый. Он находился в том беспокойном, кстати, свойственном всем политикам, возрасте, когда мир познается через его разрушение. Колянчик познавал мир с орудиями труда в руках, и ручки его уже все, не сговариваясь, именовали ручонками. Когда он с зеркала трюмо (с тыльной его стороны) ножом стал соскребать черный слой, то сильно озадачился: с лицевой стороны почему-то изображение не соскребывалось, а с тыльной – начинало исчезать, причем как-то странно – не целиком, а кусочками или полосками. Зеркало, вернее изучение устройства зеркала и механизма его действия, внесло в его