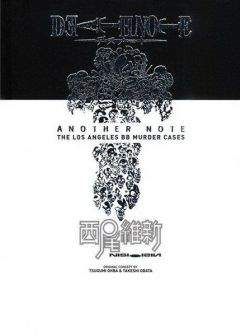Они говорили еще долго, и я долго ихъ слушалъ съ изумленіемъ. Коэвино уже давно согласился со всѣмъ, все уступилъ, опять сталъ безумцемъ, опять хохоталъ и сказалъ даже такъ:
— Après tout, la meilleure femme du monde, c’est la femme d’autrui.
И Благовъ… Благовъ отвѣтилъ на это… Какъ бы ты думалъ, что́?
— Да, пожалуй… если только это не надолго. А если привязаться и привыкнуть къ этой чужой женѣ и если мужъ при этомъ не ревнивъ, не опасенъ, равнодушенъ, какъ у насъ въ Россіи, напримѣръ, равнодушны мужья, то и это становится очень подло и гадко!
Нѣсколько секундъ послѣ этого молодой консулъ помолчалъ и потомъ вставая сказалъ доктору:
— Подождите, я вамъ прочту одно стихотвореніе.
Съ этими словами онъ показался въ дверяхъ балкона.
Я закрылъ себѣ лицо моею книжкой; но такъ, что могъ видѣть его немного. Благовъ, замѣтивъ меня, сначала какъ будто удивился и сказалъ:
— Ты здѣсъ?
Потомъ прибавилъ послѣ минутнаго колебанія (ахъ! какъ бы дорого я далъ, чтобы знать, что́ онъ думалъ обо мнѣ въ эту минуту? Не подумалъ ли онъ, что при мнѣ не надо читать эти стихи?):
— Поди, у меня на столѣ развернутая желтая книжка…
Я принесъ желтую книжку, и Благовъ, возвратясь на балконъ къ доктору, прочелъ ему съ большимъ чувствомъ нѣсколько французскихъ стихотвореній, изъ которыхъ одно я запомнилъ легче, потому что оно было очень просто, но поразительно.
Adieu, Suzon, ma rose blonde
Qui fut à moi pendant huit jours…
Les courts plaisirs de ce monde —
Font souvent les meilleurs amours!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paff! C’est mon cheval qu’on apprette…
Какъ онъ громко, какъ страстно читалъ эти простые стихи (и какъ скоро, увы! привыкъ и я въ обществѣ русскихъ цѣнить такую простоту!).
Нагнувшись немного въ сторону на диванѣ, я могъ видѣть лицо Благова. Я видѣлъ красивое движеніе прекрасной руки его. «Paff! C’est mon cheval qu’on apprette!» Я видѣлъ хорошо строгій профиль его немного длиннаго и блѣднаго лица, лица даже слишкомъ строгаго и властительнаго для его возраста. (Ему вѣдь было всего еще двадцать шесть лѣтъ.)
Докторъ слушалъ. И его я видѣлъ. Его голова вздрагивала, смуглое лицо было томно, глаза задумчивы.
Благовъ остановился и сказалъ серьезно, такъ серьезно, какъ будто бы дѣло шло о родинѣ или вѣрѣ:
— Вотъ идеалъ жизни! «Paff! C’est mon cheval qu’on apprette».
Докторъ потомъ сказалъ:
— Молодые французы XVIII вѣка имѣли обычай восклицать и даже писали на стѣнахъ такого рода правила: «Шпага дворянская должна быть всегда готова на защиту Бога, короля и любовницы».
Разговоръ этотъ длился между ними два часа, я думаю, пока, наконецъ, кто-то проходившій по улицѣ не поклонился имъ и, остановясь подъ балкономъ, не прервалъ ихъ разговора извѣстіемъ, что Рауфъ-пашѣ опять немного получше, что онъ сталъ выходить.
Я послѣ этого покинулъ свой уголокъ поученія и ушелъ. Но, Боже мой! Никакая рѣчь, никакое чтеніе дотолѣ не поражали меня такъ, какъ поразили эти слова Благова.
«А таинство? Таинство брака? — думалъ я долго, долго еще послѣ этого. — Отчего же ни тотъ, ни другой не упомянули ни разу о смертномъ грѣхѣ? О священныхъ заповѣдяхъ Божіихъ? О страшной карѣ загробной? О томъ, какъ святые отцы, учителя наши, говорили, что изъ всѣхъ злыхъ духовъ самый отвратительный, даже по виду, это демонъ плотскаго грѣха, и милая личина, которую принялъ онъ на этой землѣ, назначена лишь для того, дабы лучше скрыть тѣ отвратительныя свойства, которыя таятся подъ нею!»
Мнѣ хотѣлось не разъ выйти на балконъ и сказать имъ:
— Простите, господа мои, вы забыли одно… вотъ то-то и вотъ то-то!
И потомъ что́ за жестокость и къ себѣ, и къ другимъ!.. Отчего же ненавидѣть нѣжность такъ уже искренно и глубоко? Зачѣмъ такъ презирать благодушный уходъ юной… или хоть бы и не юной супруги… Что́ за холодное, что́ за желѣзное сердце…
Нѣтъ! Нѣтъ! Нѣтъ!.. Онъ мнѣ чужой, онъ не нашъ, не мой, не близкій сердцу… Онъ только повелитель мой… Онъ не отецъ, не братъ, не другъ… Онъ господинъ господствующій. Онъ чуждый богъ, сошедшій на мигъ въ нашу простую среду, надъ которой онъ паритъ высоко несытымъ сердцемъ и гордою мыслью!..
И опять, опять вспомнилъ я прощальныя слова отца моего у дверей горнаго хана, гдѣ я въ послѣдній разъ, со слезами провожая его опять на Дунай, поцѣловалъ его десницу. Вотъ эти слова:
«Ходи въ хорошіе дома, бери въ нихъ полезные примѣры благородства и образованности, а отъ того, что́ твоему возрасту непристойно и что́ несообразно со строгою нравственностью добраго православнаго, отъ того устраняйся… Вотъ тебѣ мое слово отеческое. Я сказалъ, а ты это помни!»
Но гдѣ же эти предѣлы подражанія? Предѣлы поученія? Гдѣ этотъ критеріумъ познанія блага и зла?.. Какъ уловить эти измѣнчивые и незримые предѣлы моему уже смущенному молодому уму, когда великіе мудрецы всѣхъ временъ были несогласны другъ съ другомъ въ начертаніи ихъ?..
«Бери примѣры благородства»… сказалъ отецъ…
Но вотъ Бостанджи-Оглу разсказываетъ, будто бы этотъ самый Благовъ получилъ года два тому назадъ въ наслѣдство отъ дяди своего восемь тысячъ русскихъ рублей и прожилъ ихъ въ одинъ мѣсяцъ въ отпуску, въ Россіи, говоря, что «обезпечить его такая небольшая сумма по его понятіямъ не можетъ, а память хорошую подобный мѣсяцъ оставитъ ему на всю жизнь»… Восемь тысячъ рублей!.. Для меня это цѣлая жизнь… Цѣлый міръ еще недостижимый, но понятный… Для меня это хорошій домъ въ Загорахъ, это торговля ѳессалійскимъ хлѣбомъ или рыбой и русскою икрой на Дунаѣ; чистый расчетъ съ заимодавцами утомленнаго отца, для меня это бракъ счастливый, это первый камень большой торговой или даже банкирской конторы въ Галатѣ, въ Галацѣ, въ Смирнѣ, Букурештѣ…
Куда же онъ прожилъ эти деньги? На гетеръ, на театры, на огромные бакшиши какимъ-нибудь слугамъ, чтобъ они льстили и притворно угождали ему…
Школу ли онъ воздвигъ на родинѣ своей для просвѣщенія тѣхъ порабощенныхъ русскихъ съ «рубашкой наружу», которыхъ я еще въ первомъ дѣтствѣ моемъ видалъ на Дунаѣ и о которыхъ даже во всеобщей географіи для руководства въ греческихъ училищахъ пишутъ такъ: «простолюдины русскіе грубы и порабощены, тогда какъ благородный классъ Россіи весьма образованъ».
На что́ же онъ прожилъ эти деньги? На что́? Бостанджи смѣется моему ужасу и моему удивленію и говоритъ:
— Развѣ эти благородные русскіе знаютъ счетъ деньгамъ?..
Что́ жъ, не этому ли благородству подражать мнѣ?.. Не расточительности ли мнѣ учиться?..
Или не тому ли, о чемъ говорилъ Коэвино… на балконѣ, во всемъ такъ охотно и быстро уступая Благову… «Un gentilhomme doit avoir son épée tourjours prête pour defendre son Dieu, son roi et sa maitresse…»
Sa maitresse! Да! а не законную свою супругу… Или не внимать ли съ любовью Благову, когда онъ законный бракъ, согласный, дружный, исполненный нѣжной и твердой довѣренности, зоветъ отвратительною вещью и съ такою гордостью любуется своею порочностью… И, говоря такъ долго о бракѣ, сравнивая его съ необходимымъ, принудительнымъ наборомъ солдатъ, ни разу не упомянуть о христіанскомъ освященіи его, при которомъ все становится такъ ясно, такъ хорошо, такъ понятно. Да! безъ этой дальней, безконечно дальней, но глубокой музыки, то кротко-усладительной, то грозно-звучащей гдѣ-то и откуда-то о загробномъ вѣнцѣ и загробной ужасной и нестерпимой карѣ, — быть можетъ и правда, что пѣсня брака была бы скучна и суха для иныхъ.
Для иныхъ, — я говорю тебѣ теперь, но въ то время, когда солнце жизни только что начинало восходить для меня, я другого идеала не зналъ!
Счастливый бракъ съ красивою и не бѣдною дѣвушкой, которая бы меня любила и боялась, какъ должна жена бояться мужа, вотъ о чемъ я думалъ еще въ Загорахъ. Переступить въ свое время, во время подобающее, мирно и неспѣшно порогъ привѣтливаго гинекея, хозяиномъ благосклоннымъ, но строго-ревнивымъ о своей чести, не понижая себя ни на пядь общественно, но поднимаясь этимъ союзомъ еще выше, если только можно. Вотъ что́ снилось мнѣ и наяву!
И когда я видѣлъ на улицѣ не доросшихъ еще до заключенія114 дочерей архонтовъ нашихъ, когда онѣ, потупивъ очи, спѣшили въ женское училище съ книжками въ рукахъ въ сопровожденіи служанокъ, то я, какъ ястребъ, разводящій по воздуху высокіе круги, выбиралъ иногда въ ихъ толпѣ съ улыбкой мою будущую добычу, въ одно и то же время любуясь на ихъ нѣжную юность и считая золото ихъ отцовъ.
И когда подобная дѣвушка, когда такой херувимъ невинный и пугливый будетъ покорно подходить ко мнѣ за повелѣніемъ и цѣловать при другихъ мою супружескую руку осторожно и почтительно, какъ цѣлуютъ у іерея, а наединѣ обниметъ меня и назоветъ такъ свободно и смѣло: «Одиссей мой! мой мальчикъ милый! Очи мои, Одиссей!..» И когда надъ ничѣмъ дотолѣ ни съ той ни съ другой стороны неоскверненнымъ ложемъ нашимъ будутъ летать незримо, благословляя насъ, свѣтлые ангелы Божіи (такъ не разъ пророчила мнѣ мать моя, убѣждая меня хранить цѣломудріе). Неужели же это такая отвратительная, такая скучная вещь, какъ говоритъ Благовъ?