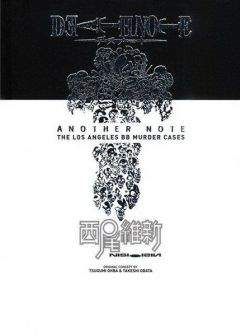Бѣгу къ Сабри-бею… бѣгу…
Къ тому же… быть можетъ… и узнаю какъ-нибудь… ну… какъ-нибудь… какъ придется, — не прогнѣвался ли на меня паша за то, что я еще тогда, прежде карнавала, хотя мигъ пытался ѣсть бокомъ при немъ, или за то, что не могъ ѣсть… и убѣжалъ какъ дикій человѣкъ изъ-за просвѣщенной трапезы… Дьяволъ самъ разберетъ всѣ эти трудности и хитросплетенія человѣчества… А разбирать, однако, очень необходимо и даже неизбѣжно!.. Вотъ беласъ119 гдѣ!
Прихожу въ Порту. Вхожу въ тѣ большія, холодныя сѣни, гдѣ ждутъ всегда просители; гдѣ стоятъ у дверей стражи и жандармы; чрезъ которыя изъ однѣхъ завѣшанныхъ теплою занавѣской дверей въ разныя другія двери, тоже завѣшанныя, перебѣгаютъ посланцы, проходятъ чиновники туда и сюда, возбуждая всегда движеніе въ толпѣ, большее или меньшее, смотря по званію и силѣ проходящаго…
Вхожу и вижу разныхъ людей съ бумагами въ рукѣ и безъ бумагъ, кто сидитъ на полу, кто на ступенькахъ лѣстницы, кто стоитъ у стѣны. Нѣкоторые воины и стражи сидятъ на скамеечкахъ. Ходитъ продавецъ бубликовъ съ лоткомъ для проголодавшихся людей; кафеджи готовъ подать кофе (за деньги) кому угодно…
Смотрю, кому бы сказать, что я къ Сабри-бею, чтобы послушался и скорѣе доложилъ. Къ счастію, вижу, сидитъ тотъ самый серьезный, тихій, но твердый турокъ, который почти годъ тому назадъ, когда я еще былъ несравненно глупѣе и необразованнѣе, защитилъ меня отъ бѣшеной Гайдуши, тотъ самый благодѣтельный воинъ, который вынудилъ меня благословить хоть на мгновенье позорное иго иновѣрныхъ…
Его звали Гуссейнъ-ага…
Я немножко сробѣлъ, подходя къ нему, потому что толстые и длинные усы его стояли и въ бока и впередъ довольно грозно, но укрѣпился духомъ и сказалъ ему искательно:
— Гуссейнъ-ага мой… Благоволите доложить… Сабри-бею, что я имѣю до него весьма нужное дѣло. Я сынъ русскаго драгомана Полихроніадеса…
Гуссеннъ-ага все равнодушно и мрачно спросилъ:
— Сабри-бей?..
Я говорю: «Да-съ… Гуссейнъ-ага мой… Ваше благородіе… потрудитесь…»
Гуссейнъ-ага всталъ не спѣша (онъ прежде почти презрительно оглядѣлъ меня съ головы до ногъ), приподнялъ занавѣску на одной изъ дверей, и я слышалъ, какъ онъ, просунувъ голову туда, сказалъ грубымъ голосомъ:
— Йорга́ки-Поли́кроноса мальчикъ желаетъ притти. Слово имѣетъ сказать… Можно…
И, обернувшись опятъ назадъ, Гуссейнъ-ага сказалъ мнѣ:
— Иди!
Я вошелъ.
Сабри-бей провожалъ въ эту минуту къ дверямъ одного пожилого, очень худого и какъ будто сердитаго турка въ зеленой чалмѣ и синей очень опрятной одеждѣ…
Я слышалъ конецъ ихъ разговора: «Такъ это невозможно?» спрашивалъ сердитый турокъ, какъ бы сдерживая гнѣвъ. Сабри-бей вѣжливо, тонко, искательно отвѣчалъ ему:
— Невозможно, эффенди мой, это никакъ невозможно. Теперь совсѣмъ другіе порядки… Я очень радъ бы былъ услужить вамъ, но въ изгнаніе нельзя человѣка за два слова послать…
— Невозможно! — повторилъ турокъ мрачно (казалось, что ему большого труда стоило не изругать, не проклясть, не избить Сабри-бея). — Намъ невозможно, а гяурамъ судитамъ120 все возможно…
— Это не наше дѣло, эффенди мой; на это есть трактаты съ иностранными девлетами… — съ улыбкой ничѣмъ непобѣдимой дипломатіи возразилъ Сабри.
— Эй в’аллахъ! — сказалъ эффенди уходя и кланяясь.
Онъ направился къ двери и, проходя мимо меня, взглянулъ на меня такъ грозно, что я не зналъ куда скрыться. Но это впечатлѣніе тотчасъ же исчезло, когда я остался одинъ съ ласковымъ Сабри.
Онъ посадилъ меня около себя съ улыбкой; распечаталъ письмо отца тоже съ улыбкой; съ улыбкой взглядывалъ чрезъ письмо на меня; читая, пріятно качалъ головой, повторяя: «пекъ эи́! пекъ эи́!» Потомъ задумался… Потомъ, когда въ концѣ письма дошелъ до того мѣста, гдѣ ему иносказательно обѣщалъ отецъ деньги по окончаніи дѣла, сдѣлался серьезенъ и старался скрыть сладкое волненіе, которое овладѣло имъ… И даже слегка вздохнулъ, когда, сложивъ письмо и обратясь ко мнѣ, сказалъ:
— Я очень люблю вашего отца! Очень умный и добрый человѣкъ… Пекъ эи́ адамъ! Пекъ vertueux, honorable!.. И для компаніи самый пріятный человѣкъ, и въ дѣлахъ очень умный… Я очень жалѣю, что онъ лишился должности русскаго драгомана. Г. Благовъ прекрасный молодой человѣкъ, высокой образованности, но онъ немного горячъ, и другіе люди имѣютъ на него вредное для дѣлъ вліяніе…
Потомъ помолчавъ Сабри-бей сталъ вглядываться, все съ улыбкой же и не выпуская моей руки, въ мою новую европейскую одежду и смѣясь воскликнулъ:
— Теперь вы европеецъ! И прекрасно! Вы очень хорошо сдѣлали, что одѣлись такъ. При положеніи вашего отца и живя въ русскомъ консульствѣ вамъ неприлично быть одѣтымъ какъ бизирьянъ121 съ базара. Вѣдь я правду говорю? — спросилъ онъ вкрадчиво и провелъ слегка своими тонкими пальцами по моей щекѣ.
— А! — воскликнулъ Сабри-бей. — «Нѣжный пухъ айвы» уже начинаетъ покрывать ваши щеки…
Дальше впрочемъ онъ этого разговора «о пухѣ айвы» не продолжалъ и, принявъ снова дѣловой и серьезный видъ, сказалъ:
— Успокойтесь! Успокойтесь! Дѣло отца вашего — дѣло правое, и онъ очень хорошо сдѣлалъ, что обратился прямо къ намъ. Я это вамъ все устрою… — И ударилъ въ ладоши.
Вошелъ Гуссейнъ-ага.
— Отведи г. Одиссея къ Мустафа-бею (это былъ начальникъ заптіе), ему нужны завтра двое заптіе конныхъ въ село Джамманда́…
Гуссейнъ вышелъ.
Тогда, ободренный лаской Сабри-бея, я рѣшился просить его, чтобъ этотъ именно Гуссейнъ былъ однимъ изъ назначенныхъ мнѣ въ помощь заптіе… Я надѣялся на его солидность и его усы. Сабри-бей воскликнулъ: «съ радостью, съ радостью!» и, пославъ меня догнать и вернуть Гуссейна, написалъ къ кому-то записку, отдалъ ее Гуссейну, а самъ сказалъ мнѣ, что пойдетъ доложить обо всемъ пашѣ и Ибрагиму, приказывая мнѣ дождаться въ сѣняхъ.
Уходя изъ комнаты, онъ еще разъ остановился и сказалъ мнѣ:
— Когда кончишь все это дѣло, заходи ко мнѣ, дитя мое, заходи ко мнѣ въ домъ… Я всегда радъ видѣть такого милаго и благороднаго юношу…
Онъ сказалъ это по-гречески и такъ звучно и пріятно: «Эвгени́с неаніа́с»122, что я былъ внѣ себя отъ радости.
Я поблагодарилъ и обѣщалъ непремѣнно притти благодарить его, но прибавилъ:
— Я боюсь, эффенди, что эти люди сельскіе денегъ не отдадутъ. Они такіе варвары и такіе хитрые…
— Заптіе ихъ принудятъ отдать, не бойся, — сказалъ Сабри-бей. — Я скажу Гуссейну, чтобъ онъ былъ посердитѣе, и можно будетъ и въ тюрьму нѣкоторыхъ взять…
Такъ успокоивъ меня, Сабри-бей вышелъ вмѣстѣ со мной въ большія сѣни и ушелъ къ пашѣ; а я остался въ сѣняхъ и ждалъ.
Я былъ очень доволенъ и ходилъ взадъ и впередъ между просітелями, женщинами и солдатами, осторожно, почтительно изрѣдка взглядывая на занавѣску паши, за которою скрылся Сабри.
Вдругъ раздался подъ открытыми окнами конскій топотъ и легкій шумъ колесъ по песку двора…
Иные изъ просителей подошли къ окнамъ, подошелъ и я. У каменныхъ ступеней подъѣзда стояла коляска паши и конники, которые должны были сопровождать его куда-то, кто на играющей лошади, кто спѣшась окружали экипажъ… Взбѣжалъ на лѣстницу молодой офицеръ… Скорыми шагами вошелъ на минуту къ пашѣ, тотчасъ вышелъ опять и далъ знакъ рукой изъ окна…
Солдаты всѣ бросились на лошадей… Черные кони въ коляскѣ рвались…
Занавѣска вдругъ приподнялась высоко, и паша вышелъ слегка кашляя и придерживая рукой кривую саблю.
Хотя онъ былъ ростомъ малъ и худъ, и старъ, и нездоровъ, и невзраченъ… но онъ былъ паша…
И я тотчасъ же ощутилъ его присутствіе по нѣкоему особому полубоязливому, полупраздничному содроганію моихъ глубочайшихъ внутренностей…
Все въ сѣняхъ вскочило на ноги, все поднялось мгновенно, глухой шопотъ разговора умолкъ, и все какъ бы застыло въ почтительномъ молчаніи…
Рауфъ-паша проходилъ чрезъ сѣни, отвѣчая слегка рукой на поклоны иныхъ, но ни на кого не глядя. Я стоялъ уничтожаясь, однако около лѣстницы, на самомъ пути его… Уничтожаясь, я все-таки желалъ быть на видномъ мѣстѣ…
Я боялся лишь настолько, что желалъ видѣть обязательную боязнь мою замѣченною; я трепеталъ, но трепетъ мой не заглушалъ моей тщеславной жажды привлечь на себя хоть мимолетный взглядъ властелина…
И Рауфъ-паша увидалъ меня…
Онъ вдругъ остановился.
— Ты сынъ Полихроніадеса, бывшаго русскаго драгомана? — спросилъ онъ не сердясь.
Я сказалъ: — Я, паша-эффендимъ, точно сынъ его…
— Ты просилъ жандармовъ въ село Джамманда́?
— Я просилъ, эффендимъ, — отвѣчалъ я притворно умоляющимъ голосомъ…
— Я велѣлъ Гуссейну и другому ѣхать съ тобой завтра… Они взыщутъ деньги…
Потомъ, поглядѣвъ еще на меня, онъ улыбнулся слегка и спросилъ:
— Можешь ты запомнить то, что́ я тебѣ скажу, и написать объ этомъ г. Благову въ Превезу?