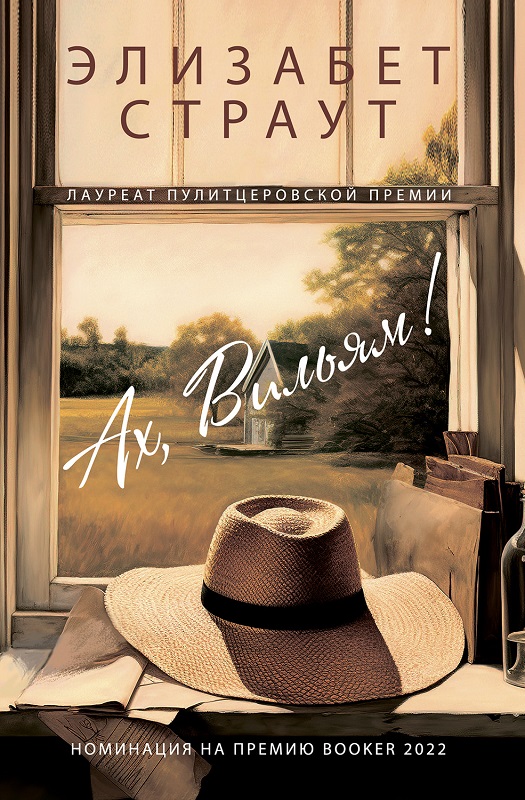за тот день, когда Вильям поздно вернулся с работы. Я со страхом показала ему чек и спросила про ресторан. Он (как мне показалось) опешил, но затем сказал, что у его коллеги случились неприятности и он повел ее ужинать. Почему он не упоминал об этом? Не помню, что он ответил, но ему удалось развеять мои сомнения — почти. (Уже несколько лет мне снилось, что Вильям мне изменяет, и всякий раз, когда я рассказывала ему об этом, он ласково успокаивал меня и говорил: «И откуда у тебя только такие сны?») Но два дня спустя у нас были гости, супружеская пара, и я поднялась с женой на крышу, ей хотелось покурить, и там она рассказала, что у нее в Лос-Анджелесе есть любовник. «Секс великолепный, — сказала она и затянулась. — Секс просто волшебный».
И, когда она сказала это, я поняла. Насчет Вильяма. Не знаю, почему именно в тот момент, но я все поняла, и когда мы вернулись в квартиру и я взглянула на Вильяма, думаю, он прочел это у меня на лице, и мы подождали, пока гости уйдут и пока девочки лягут спать, и тогда я передала ему слова той женщины, и немного погодя он сознался. Сначала в одной связи, потом еще в нескольких. Кажется, особенно дорога ему была женщина с работы, хоть он и говорил, что никого из них не любит. Но про Джоанну он не рассказывал еще три месяца. А когда рассказал, я думала, что умру. Я и так думала, что умру, когда слушала про других женщин. Но эта женщина, Джоанна, много раз бывала в нашем доме, как-то летом, когда я лежала в больнице, она водила ко мне наших девочек, она была не только другом моего мужа, но и моим тоже.
Во мне надломился стебель тюльпана. Вот что я почувствовала. И так и не сросся.
После этого я начала писать более правдиво.
* * *
— Мам! — воскликнула Бекка в трубку, когда я шла в аптеку на следующий день. — Мам, это какой-то ужас!
Я сразу поняла, что Вильям рассказал ей про Эстель.
— И не говори, — ответила я. На тротуаре стояла скамейка, и я на нее села.
— Это какой-то ужас, — повторила Бекка. — Ну как так можно? Мам!
— И не говори, солнышко. — Мимо ходили люди, и я смотрела на них сквозь солнечные очки невидящим взглядом. Затем у меня завибрировал телефон, это звонила Крисси. — Крисси звонит, — сказала я. — Подожди минутку.
Я нажала на зеленый круг, и раздался голос Крисси:
— Мам, поверить не могу! Просто поверить не могу!
— И не говори.
Так и продолжалось: девочки наперебой возмущались, а я спокойно беседовала с ними, и, когда они обе спросили, что теперь будет с папой, я сказала, что он придет в норму. Я произнесла это как можно увереннее, потому что сама не была уверена, — а впрочем, что еще ему оставалось делать, что еще остается делать большинству из нас?
— Он не так уж стар, — сказала я им. — У него крепкое здоровье, все у него наладится.
Не прошло и недели, как Крисси заказала в комнату Бриджет кровать и письменный стол, а еще она купила новые ковры.
— Они гораздо красивее, — сказала Крисси. — Тут сразу стало повеселей.
Какая она замечательная, наша Крисси. Умеет быть за главную.
Еще через три недели она позвонила и сказала:
— Мам, мы устраиваем ужин у папы дома. Мы хотим, чтобы ты пришла.
* * *
Тут надо кое-что пояснить — знаю, я обещала не упоминать больше о Дэвиде, но мне кажется, вы должны знать.
Я говорила, что Вильям был моим единственным домом, и это правда. Дэвид — как я уже рассказывала — рос в бедности, в общине хасидских евреев в Чикаго. Но в девятнадцать лет он покинул свою общину, и его подвергли остракизму, и он почти сорок лет не общался ни с кем из родных, пока с ним не связалась сестра. А знать вам нужно вот что: нас с Дэвидом объединяло то, что нас обоих воспитывали в отрыве от культуры внешнего мира. У нас обоих не было в детстве телевизора. У нас было лишь расплывчатое представление о войне во Вьетнаме, пока мы сами не изучили ее уже во взрослом возрасте, мы оба не знали песен времен нашего детства — потому что никогда их не слышали, мы ни разу не бывали в кино, пока не выросли, мы не знали самых обычных крылатых выражений. Трудно описать, каково это — расти в изоляции от мира. Поэтому мы стали друг другу домом. И все равно нам казалось (мы оба это чувствовали), будто мы — птицы, примостившиеся на телефонных проводах Нью-Йорка.
Но позвольте мне рассказать об этом человеке еще одну вещь!
Роста он был невысокого, а из-за детской травмы у него было искривление таза, поэтому он ходил медленно и сильно хромал. И для своего роста он был тучноват. Я хочу сказать, что внешне он был — ну практически — противоположностью Вильяма. И, когда мы поженились, у меня не было на него такой реакции, как на Вильяма. Тело Дэвида всегда было для меня огромным утешением. Дэвид был для меня огромным утешением. Боже, каким утешением он для меня был.
* * *
Когда я пришла в гости к Вильяму, девочки были уже там, но без мужей, что меня удивило, и Бекка с улыбкой сказала: «Мы оставили их дома».
Квартира и правда выглядела гораздо лучше, я прошлась по комнатам и громко восхитилась всем, что сделала Крисси. (Ваза с каминной полки исчезла.) Вильям тоже выглядел лучше, но когда я чмокнула его в щеку, он потрепал меня по руке и тихонько вздохнул, как бы говоря, что согласился на это ради девочек — чтобы они видели, что у него все нормально. Девочки приготовили ужин, и мы уселись за круглым кухонным столом (его Эстель не забрала), и Вильям выпил два бокала красного вина, чего он почти никогда не делает, — я хочу сказать, он почти никогда не пьет. И вот что произошло.
На душе у меня стало невероятно легко. Мы все почувствовали эту легкость. Мы выпали из настоящего, и нас отбросило в прежние времена, когда мы были семьей; в душе у меня царил покой, вот что я пытаюсь сказать. И у остальных тоже. Просто удивительно, до чего нам было легко. Я окинула взглядом их лица, и они светились особой радостью.
Мы вспоминали о старых друзьях нашей семьи, вспоминали, как Бекка целый год ходила с фиолетовыми прядками в волосах, когда была подростком. Мы рассказали историю, которую рассказывали уже тысячу раз, о том, как однажды летом Вильям остановил машину посреди дороги, потому что Крисси вся извертелась в детском кресле, — ей тогда было три — и ткнул в нее пальцем со словами: «Так, слушай сюда, ты начинаешь меня бесить», а она подалась вперед и ответила: «Нет, ты слушай сюда. Это ты начинаешь меня бесить». Мы обожали эту историю, и в конце я добавила, как добавляла всякий раз: «Мы с папой переглянулись, и он завел машину. Тогда-то мы и поняли, кто в этой семье главный». Крисси, уже совсем взрослая, разрумянилась от удовольствия. Мы вспоминали, как возили девочек в Диснейленд во Флориде и как Бекка до смерти испугалась Капитана Крюка, остановившегося во время парада и наставившего на нее шпагу, и Крисси просто давилась со смеху.
— Да не испугалась я, — сказала Бекка, а мы все сказали ей:
— Нет, испугалась.
— Тебе было девять, — сказала Крисси, — а вела ты себя как трехлетка!
И Бекка смеялась до слез.
— Ей было восемь, — сказал Вильям. — Ей тогда было восемь.
Мы сидели на кухне, и смеялись, и были счастливы. А потом Бекка взглянула на часы и сказала: «Ой, мне надо идти…» — и внезапно погрустнела, и тогда Крисси сказала, что ей тоже надо идти; я посмотрела на Вильяма, а он на меня, и затем он сказал: «Ты тоже иди, Люси. — Он встал. — Все на выход, я сам уберу. Идите». И по его улыбке я поняла, что у него все наладится, и, думаю, девочки тоже это поняли, а когда