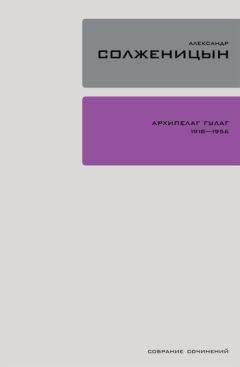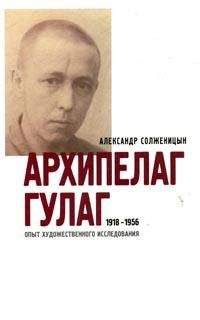Да, ты посажен в тюрьму зряшно, перед государством и его законами тебе раскаиваться не в чем.
Но – перед совестью своей? Но – перед отдельными другими людьми?..
…После операции я лежу в хирургической палате лагерной больницы. Я не могу пошевелиться, мне жарко и знобко, но мысль не сбивается в бред – и я благодарен доктору Борису Корнфельду, сидящему около моей койки и говорящему целый вечер. Свет выключен, чтоб не резал глаза. Он и я – никого больше нет в палате.
Он долго и с жаром рассказывает мне историю своего обращения из иудейской религии в христианскую. Обращение это совершил над ним, образованным человеком, какой-то однокамерник, беззлобный старичок вроде Платона Каратаева. Я дивлюсь его убеждённости новообращённого, горячности его слов.
Мы мало знаем друг друга, не он – мой хирург, и не он лечит меня, но просто не с кем ему поделиться здесь. Он – мягкий обходительный человек, ничего дурного я не вижу в нём и не знаю о нём. Однако настораживает то, что Корнфельд уже месяца два живёт безвыходно в больничном бараке, заточил себя здесь, при работе, и избегает ходить по лагерю.
Это значит – он боится, чтоб его не зарезали. У нас в лагере недавно пошла такая мода – резать стукачей. Очень внушительно отзывается. Но кто может поручиться, что режут только стукачей? Одного зарезали явно в сведении низких личных счётов. И поэтому – самозаточение Корнфельда в больнице ещё нисколько не доказывает, что он – стукач.
Уже поздно. Вся больница спит. Корнфельд заканчивает свой рассказ так:
– И вообще, вы знаете, я убедился, что никакая кара в этой земной жизни не приходит к нам незаслуженно. По видимости, она может прийти не за то, в чём мы на самом деле виноваты. Но если перебрать жизнь и вдуматься глубоко – мы всегда отыщем то наше преступление, за которое теперь нас настиг удар.
Я не вижу его лица. Через окно входят лишь рассеянные отсветы зоны, да жёлтым электрическим пятном светится дверь из коридора. Но такое мистическое знание в его голосе, что я вздрагиваю.
Это – последние слова Бориса Корнфельда. Он безшумно уходит ночным коридором в одну из соседних палат и ложится там спать. Все спят, ему уже не с кем сказать ни слова. Засыпаю и я.
А просыпаюсь утром от беготни и тяжёлого переступа по коридору: это санитары несут тело Корнфельда на операционный стол. Восемь ударов штукатурным молотком нанесены ему, спящему, в череп (у нас принято убивать тотчас же после подъёма, когда уже отперты бараки, но никто ещё не встал, не движется). На операционном столе он умирает, не приходя в сознание.
Так случилось, что вещие слова Корнфельда – были его последние слова на земле. И, обращённые ко мне, они легли на меня наследством. От такого наследства не стряхнёшься, передёрнув плечами.
Но я и сам к тому времени уже дорос до сходной мысли.
Я был бы склонен придать его словам значение всеобщего жизненного закона. Однако тут запутаешься. Пришлось бы признать, что наказанные ещё жесточе, чем тюрьмою, – расстрелянные, сожжённые – это некие сверхзлодеи. (А между тем – невинных-то и казнят ретивее всего.) И что́ бы тогда сказать о наших явных мучителях: почему не наказывает судьба их? почему они благоденствуют?
(Это решилось бы только тем, что смысл земного существования – не в благоденствии, как все мы привыкли считать, а – в развитии души. С такой точки зрения наши мучители наказаны всего страшней: они свинеют, они уходят из человечества вниз. С такой точки зрения наказание постигает тех, чьё развитие – обещает.)
Но что-то есть прихватчивое в последних словах Корнфельда, что для себя я вполне принимаю. И многие примут для себя.
На седьмом году заключения я довольно перебрал свою жизнь и понял, за что мне всё: и тюрьма, и довеском – злокачественная опухоль. Я б не роптал, если б и эта кара не была сочтена достаточной.
Кара? Но – чья?
Ну придумайте – чья?
* * *
В той самой послеоперационной, откуда ушёл на смерть Корнфельд, я пролежал долго, и всё один (из-за ареста моего хирурга операции остановились), безсонными ночами перебирая и удивляясь собственной жизни и её поворотам. По лагерной уловке я свои мысли укладывал в рифмованные строчки, чтобы запомнить. Верней всего теперь и привести их – как они были, с подушки больного, когда за окнами сотрясался каторжный лагерь после мятежа.
Да когда ж я так до́пуста, до́чиста
Всё развеял из зёрен благих?
Ведь провёл же и я отрочество
В светлом пении храмов Твоих!
Рассверкалась премудрость книжная,
Мой надменный пронзая мозг,
Тайны мира явились – постижными,
Жребий жизни – податлив, как воск.
Кровь бурлила – и каждый выполоск
Иноцветно сверкал впереди, —
И, без грохота, тихо рассыпалось
Зданье веры в моей груди.
Но пройдя между быти и небыти,
Упадав и держась на краю,
Я смотрю в благодарственном трепете
На прожитую жизнь мою.
Не рассудком моим, не желанием
Освещён её каждый излом —
Смысла Высшего ровным сиянием,
Объяснившимся мне лишь потом.
И теперь, возвращённою мерою
Надчерпнувши воды живой, —
Бог Вселенной! я снова верую!
И с отрекшимся был Ты со мной…
Оглядясь, я увидел, как всю сознательную жизнь не понимал ни себя самого, ни своих стремлений. Мне долго мнилось благом то, что было для меня губительно, и я всё порывался в сторону, противоположную той, которая была мне истинно нужна. Но как море сбивает с ног валами неопытного купальщика и выбрасывает на берег – так и меня ударами несчастий больно возвращало на твердь. И только так я смог пройти ту самую дорогу, которую всегда и хотел.
Согнутой моей, едва не подломившейся спиной дано было мне вынести из тюремных лет этот опыт: как человек становится злым и как – добрым. В упоении молодыми успехами я ощущал себя непогрешимым и оттого был жесток. В переизбытке власти я был убийца и насильник. В самые злые моменты я был уверен, что делаю хорошо, оснащён был стройными доводами. На гниющей тюремной соломке ощутил я в себе первое шевеление добра. Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями, – она проходит через каждое человеческое сердце – и черезо все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятом злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце – неискоренённый уголок зла.
С тех пор я понял правду всех религий мира: они борются со злом в человеке (в каждом человеке). Нельзя изгнать вовсе зло из мира, но можно в каждом человеке его потеснить.
С тех пор я понял ложь всех революций истории: они уничтожают только современных им носителей зла (а не разбирая впопыхах – и носителей добра), – само же зло, ещё увеличенным, берут себе в наследство.
К чести XX века надо отнести Нюрнбергский процесс: он убивал саму злую идею, очень мало – заражённых ею людей. (Конечно, не Сталина здесь заслуга, уж он бы предпочёл меньше растолковывать, а больше расстреливать.) Если к XXI веку человечество не взорвёт и не удушит себя – может быть, это направление и восторжествует?..
Да если оно не восторжествует – то вся история человечества будет пустым топтаньем, без малейшего смысла! Куда и зачем мы тогда движемся? Бить врага дубиной – это знал и пещерный человек.
«Познай самого себя». Ничто так не способствует пробуждению в нас всепонимания, как теребящие размышления над собственными преступлениями, промахами и ошибками. После трудных неоднолетних кругов таких размышлений говорят ли мне о безсердечии наших высших чиновников, о жестокости наших палачей – я вспоминаю себя в капитанских погонах и поход батареи моей по Восточной Пруссии, объятой огнём, и говорю:
– А разве мы – были лучше?..
Досадуют ли при мне на рыхлость Запада, его политическую недальновидность, разрозненность и растерянность – я напоминаю:
– А разве мы, не пройдя Архипелага, – были твёрже? сильнее мыслями?
Вот почему я оборачиваюсь к годам своего заключения и говорю, подчас удивляя окружающих:
– Благословение тебе, тюрьма!
Прав был Лев Толстой, когда мечтал о посадке в тюрьму. С какого-то мгновенья этот гигант стал иссыхать. Тюрьма была действительно нужна ему, как ливень засухе.
Все писатели, писавшие о тюрьме, но сами не сидевшие там, считали своим долгом выражать сочувствие к узникам, а тюрьму проклинать. Я – достаточно там посидел, я душу там взрастил и говорю непреклонно:
– Благословение тебе, тюрьма, что ты была в моей жизни!
(А из могил мне отвечают: – Хорошо тебе говорить, когда ты жив остался!)
Шаламов об отмирании в лагере человеческих чувств. – В тюрьме – моральная работа, а выживание – не за счёт других. – Лагерь – свалка, ненависть. – Зависть. – Страх. – Душевный лишай. – Множественность примеров. – Даже когда это нам без надобности (Чульпенёв). – Науськивание. – Самоохрана. – Самоугнетение. – Суть в отступлениях от закономерности. – Твёрдость верующих. – Тётя Дуся Чмиль. – Григорий Иванович Григорьев. – Не растлеваются, у кого есть нравственное ядро. – Растление не идёт без восхождения.