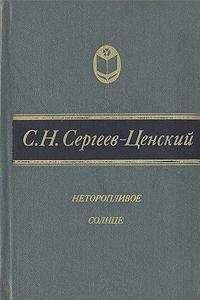Так к маю, когда начинают зацветать кедры, лиственницы и сосны, и у черемухи набухают зелененькие кисти, и березы расправляют как следует кисею плакучих веток, медвежонок уж стал полковой. Не было в полку солдата, который не потрепал бы его по холке, не подарил бы ему лишнего куска еды или ни на что не нужной копейки, не поговорил бы с ним по-рязански — на «а», с гнусавой растяжкой, по-костромски на «о», частым говорком, по-полтавски певуче и ласково, по-башкирски, как журавли — турлы-мурлы.
Так, к маю был полк в лесном захолустье, и в нем Алпатов, знамя, денежный ящик и медвежонок.
X
Май — приятный месяц и даже здесь, в Аинске, хотя и шли часто обложные дожди, но они были бесспорные, нужные, теплые: от таких дождей только добреет земля.
Полк уже вышел в лагерь, надел легкие гимнастерки, кончал курсовую стрельбу, когда новый командир бригады назначил смотр.
И так же спокойно, как все, что он делал, Алпатов отдал в приказе по полку: батальонным командирам проверить готовность рот в своих батальонах. Потом покатилось это дальше вниз: к ротным, субалтернам, фельдфебелям — вплоть до последнего рядового, в цейхгаузы, пекарни, швальню, на обозный двор.
Как большое тело, ожидающее удара, полк подобрался, ощетинился, напружился, выправил сильные места, спрятал слабые, отправил плохих солдат из рот в околоток, наклеил на всякий случай новые мишени на старые, простреленные доски, пересмотрел запасы, пересчитал мундиры, хлеб начал печь такой, что айнские бабы и без слов догадались, что генерал едет.
Подполковник Выставкин из первого батальона, скорый на слова, но службист плохой, незадолго перед этим (на время, конечно) поссорился с другим батальонным, Зеленгуром, и потому теперь, проверяя готовность своих рот, он кричал то и дело:
— Это вам что? Второй батальон? А?.. У меня чтобы службу несли, а не брюхо… Это вам не второй батальон, нет-с! Извините!
А Зеленгур, усатый, понурый и с одышкой, когда замечал неисправность в своих ротах, говорил язвительно и медленно:
— От, покорнейше прошу… Хым… Совсем же это, как в первом батальоне!.. Кому ж у них и учиться, как не нам, дуракам! Хым…
Генерал приехал с вечерним поездом. Встречать его на станцию выехал Алпатов с Шалаевым и верховым ординарцем подпоручиком Ткачом. Дорога в стороне от колеи была легкая, но Ткач, точно никогда не ездил верхом, управлял лошадью сразу всем телом — и руками, и ногами, и даже правым плечом. Это было первое смутное беспокойство Алпатова — плохой ординарец; и сердито крикнул ему, подъезжая к станции:
— Поручик!.. Не закапывать ре-едьки-и! — и сказал недовольно Шалаеву: — Выбрали тоже сокровище… Спасибо вам!
Когда остановился поезд и из синего вагона вышел генерал, очень высокий, немного, около самой шеи, сутулый, в небольшой красной фуражке и щегольской шинели, Алпатов двинулся к нему. На платформе толкалось много народу, сновали носильщики, пробегали с чайниками крикливые дамы, но даже дамы расступались перед Алпатовым — такой он был выпуклый и решительный, а сам он глядел только в небольшое лицо генерала, бритое, с подрезанными рыжими усами, с круглыми мешками внизу глаз, и, ставя прочно точные шаги — ни один ни больше, ни меньше другого, — отмечал дальше у генерала: нос длинный, сухой, с белым стрельчатым переносьем, зубы редкие, уши — топыром. Адъютанта его, необычно свежего, красивого, статного штабного подполковника, он взял глазами уже после, когда представился генералу.
Бывают странные встречи: случайно мелькнет перед глазами человек, а его потом долго помнишь. Забудешь иногда тех, с кем вместе рос, учился, служил, а этого случайно мелькнувшего никак не можешь выбить из памяти. Так показалось Алпатову, что если бы генерал и не был его начальником и не был бы даже генералом, и попался бы ему невзначай где-нибудь на улице, а потом навсегда пропал бы из глаз, все равно он бы его не забыл: нельзя было забыть, а в чем оно заключалось, незабываемое, — объяснить мудрено.
В четырехместном фаэтоне разместились так: на заднем сиденье генерал с адъютантом, на переднем — Алпатов с Шалаевым, и пока ехали к городу через вырванные у тайги поля — теперь теплые на вид под низким солнцем, как сырая на просушке овчина, — все время смотрел в это большеносое, рыжеватое, сухое, сухоглазое новое лицо Алпатов, не подобострастно, не наблюдающе, а так как-то находилось в нем больше и больше на что смотреть.
Генерал говорил негромко, с растяжкой, немного в нос, но точно, четко и весьма уверенно, только ударения ставил иногда на таких слогах, на которых никто не ставит.
Он спрашивал — Алпатов отвечал, и сначала отвечал словоохотливо и с готовой улыбочкой, как милый хозяин, желающий занять гостя, потом — по трем-четырем морщинкам около глаз — заметил, что это не нравится генералу, тогда он круто перешел в излишнюю краткость, похожую на строевую.
— Расположены лагери у вас в сухом месте? — щурясь от солнца, спрашивал генерал.
— Место — песчаное, сухое, — тут же отвечал Алпатов и потом думал: «Нужно было добавить — высокое… пропустил…»
— Эпиде-мических болезней в полку нет?
— За все время моего командования полком… — длинно начал было Алпатов и обрубил тут же, — не было.
Ехали мимо поселка Никольское — двенадцать дворов, из них три раскрытых — стропила, как ребра; по непросохшей грязной дороге шлепали копыта, и летели в стороны брызги и комья грязи, и задряпанный, усталый, слишком пехотный вид был у рысившего Ткача, и как-то неловко за все это стало Алпатову: так преувеличенно щегольски одет был генерал, так изысканно красив был адъютант его, подполковник, так пахло от кого-то из них тонкими духами, и такие нестерпимо трезвые глаза были у обоих.
Генерал сидел прямо против Алпатова, колено в колено, об ноги его, сухие и длинные, иногда на колдобинах стукался Алпатов и, хотя не виноват он был в этом, невольно как-то прикладывал руку к козырьку. За своею спиною чувствовал он отвалившуюся старательно, чтобы было совсем по-кучерски, спину Флегонта и, когда взглядывал на Шалаева, понимал, что думает Шалаев о новом командире, не мог думать другого, думал то же, что он: высокомерен.
— Здесь, должно быть, только яровое сеют? — неожиданно спросил красивый подполковник, показав свежие зубы.
И, наклонившись радостно к нему, обстоятельно начал объяснять Алпатов, какие хлеба сеют здесь яровыми, какие — озимыми, в каких уездах возможен табак-махорка, в каких даже вызревают арбузы… И говорил бы так долго, если бы не кашлянул тихо генерал и не сказал с чуть заметной улыбкой:
— Виноват, я вас перебью… А как заготовляете вы сено для обоза?
От солнца, заходящего за густую синь лесов, все кругом было жидко-золотое; горели одинокие межевые сосны, подымались вечерние, весенние галочьи стаи, и от них широко и звонко делалось в вышине, но Алпатов — не потому только, что было четверо в экипаже, что наклонялась к его фуражке Флегонтова спина, что торчали спереди сухие чужие колена и вплотную сбоку пришлось тело Шалаева, — чувствовал себя стиснуто и неловко.
И так тянулась эта стиснутость и неловкость вплоть до гостиницы Чалбышова, где сняли для генерала четыре номера рядом, приткнули у входа пеструю будку и поставили почетный караул.
А не больше, как через двадцать минут, по улицам, обсаженным березами, теперь совсем живыми от миллиона майских жуков (как раз доцветали в это время березы), по лужам, запруженным мирными свиньями, между рядами любопытных трехоконных один в один домиков, проехал генерал в лагерь. В лагере же на передней линейке, поднятый наскоро Ткачом, ждал его полк. Зашло уже солнце, и все кругом — и лагерь, и плац, и полк — было такое мягкое, успокоенное, чуткое… Хорошо поются песни в такое время!
Звонкая, чуть дрогнувшая, встречная команда:
— Полк смиррно! Слушай… на кра-ул! Господа офицеры!
Намеренно запоздалое, спокойное и не очень громкое, но такое слышное в тишине:
— Здорово, молодцы!
И гулкий рев:
— Здравия желаем, ваше прево-сходи-тельство!
— Рад служить с вами!
— Рады стараться, ваше прево-сходи-тельство!
И как радушный хозяин, чуть волнуясь и любуясь и всеми живя, провел генерала Алпатов вдоль полка, представляя своих офицеров, преувеличенно громко называя фамилии и чины.
Со всеми поздоровался генерал, всем одинаково говоря: «Здравствуйте!», но никого ни о чем не спросив, и все отметили после, какая у него рука: холодная, узкая, костлявая, и молодой поручик Голобородов все время потом в ротонде усиленно тер свою ладонь о чужие спины, «чтобы согреть». И у всех остались в памяти узкие, холодные, сощуренные чужие глаза и длинный, как хобот, нос с белым стрельчатым переносьем. Кто-то назвал его за сутулую шею «костылем», кто-то за длину — «семиаршинным».
Всякому известно, что хозяйственный смотр бывает после строевого, но строевого смотра нельзя же было начать перед самой зарею, и генерал отложил его на завтра. Он обошел, широко забирая ногами, лагерь, обоз, где тщательно пересмотрел сбрую и подсчитал лошадей, потом кухни и пекарни, где пробовал ужин и хлеб, потом в ротонде перелистал запись офицерских долгов, потом в канцелярии полка, еще оставшейся на зимней квартире, пригласив Бузуна, казначея, других из штаба, приказал собрать книги отчетностей и неожиданно начал хозяйственный смотр.