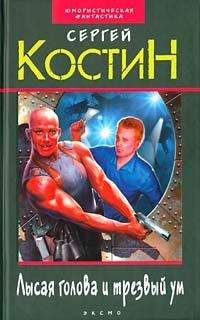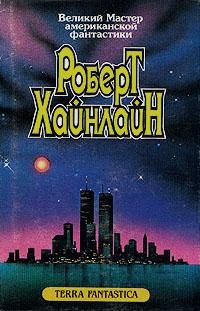На письменномъ столѣ у себя Иванъ Артамонычъ нашелъ письмо, полученное по городской почтѣ. Почеркъ руки на конвертѣ былъ ему не знакомъ.
Иванъ Артамонычъ быстро разорвалъ конвертъ и вынулъ оттуда письмо. На четверткѣ простой писчей бумаги, очевидно вырванной изъ учебной тетради и сложенной пополамъ, было написано мелкимъ почеркомъ слѣдующее: «Я отдумалъ посылать къ вамъ секундантовъ, ибо вообще выходить на дуэль глупо. Убьете вы меня — я буду мертвый, убью я васъ — я все равно не могу жениться на Наденькѣ, потому что меня посадятъ въ тюрьму, а потомъ сошлютъ. А между тѣмъ я влюбленъ въ Наденьку до безумія и она во чтобы то ни стало должна быть моей. Она также любитъ меня, на что я имѣю доказательства — ея письма, которыя при семъ прилагаю. Думаю, что, прочтя ихъ, вы, какъ благоразумный человѣкъ, и сами откажетесь отъ Наденьки. Къ чему губить чужой вѣкъ и заѣдать дѣвичью молодость! Да и не можете вы быть съ ней счастливы, ибо она никогда не будетъ любить васъ. Неужели вы такъ слѣпы, что не видите, что она потому только дала вамъ слово выдти за васъ замужъ, что такъ ея родители хотятъ! И такъ подумайте и сообразите.
Извѣстный вамъ Петръ»…
Фамилія гимназиста не была подписана.
Руки Ивана Артамоныча тряслись, губы дрожали. Онъ развернулъ листъ письма гимназиста. Оттуда выпали двѣ крошечныя цвѣтныя бумажки — одна розовая, другая зеленая, еще того мельче исписанныя, чѣмъ письмо гимназиста. Дабы прочесть ихъ, Иванъ Артамонычъ прищурился и подошелъ къ окну. На розовой бумажкѣ стояло:
«Милый Петръ Аполлонычъ! Въ отвѣтъ на ваши слова, сказанныя вчера во время репетиціи за кулисами, отвѣчаю и вамъ тѣмъ-же: да, я люблю васъ. Приходите вечеромъ, а я буду сидѣть за калиткой на скамейкѣ. Ваша Надя».
Зеленая бумажка гласила:
«Милый и добрый Петръ Аполлонычъ! Товарищъ вашъ Гулючкинъ сказывалъ, что вы сегодня сбираетесь ѣхать въ челнокѣ на взморье ловить рыбу. Бога ради, не ѣздите въ такой вѣтеръ. Пожалѣйте вашу Надю, которая будетъ терзаться изъ-за васъ. А лучше приходите вмѣстѣ съ Гулючкинымъ къ намъ съ калиткѣ и вызовите меня черезъ горничную Феню. У меня гоститъ Маничка и мы четверо пойдемъ въ лѣсъ за грибами. Ваша Надя».
Прочитавъ письма Наденьки, Иванъ Артамонычъ тяжело вздохнулъ и отдулся, потомъ прошелся по комнатѣ, сѣлъ въ кресло и задумался.
«Дѣвичья шалость тутъ, но все-таки это доказываетъ, что Надежда Емельяновна коварная, двуличная дѣвушка», сказалъ онъ самъ себѣ мысленно. «Да, двуличная и вертячка. Безъ огня дыма не бываетъ. Гимназистъ хоть и мерзавецъ, а все-таки имѣлъ поводъ придти вчера и озорничать, Сама она ему этотъ поводъ подала. Выпилъ онъ рюмку, выпилъ другую, ревность заговорила — вотъ онъ и пришелъ дерзничать. Однако, какъ тутъ мнѣ-то быть»? задалъ себѣ вопросъ Иванъ Артамонычъ и сталъ ходить въ раздумьѣ по комнатѣ.
Въ комнату заглянула горничная и доложила, что супъ поданъ. Иванъ Артамонычъ пошелъ въ столовую, сѣлъ за столъ, выпилъ рюмку водки, хлебнулъ нѣсколько ножекъ супу и положилъ ложку. Аппетитъ пропалъ.
— Добра не будетъ отъ этой женитьбы, не будетъ… сказалъ онъ вслухъ.
Горничная подала битки въ сметанѣ. Иванъ Артамонычъ выпилъ еще рюмку водки, поковырялъ вилкой битокъ и крикнулъ:
— Убирайте со стола!
Послѣ обѣда онъ снялъ съ себя пиджакъ, по обыкновенію, легъ въ кабинетѣ на диванъ, хотѣлъ заснуть, но сонъ бѣжалъ его очей. Иванъ Артамонычъ лежалъ, кряхтѣлъ и думалъ, думалъ и кряхтѣлъ. Черезъ четверть часа явилась горничная и спросила:
— Не спите? Кучеръ спрашиваетъ: запрягать ему или не запрягать? Вы еще съ вечера говорили ему, что поѣдете на дачу.
— Никуда я сегодня не поѣду.
Иванъ Артамонычъ всталъ, подошелъ къ канарейкамъ, но канарейки его не радовали.
«Эхъ! И чего только замѣшался этотъ гимназистъ! вздохнулъ онъ. — Положимъ, что тутъ со стороны Наденьки ничего серьезнаго нѣтъ. Дѣвичья вспышка къ своему сверстнику… Какъ полюбила, такъ и разлюбитъ, но гимназистъ-то нахалъ. Вѣдь онъ покою не дастъ. Вѣдь не могу-же я, женившись, цѣлые дни сидѣть около Наденьки. Ну, и будетъ такъ, что я на службѣ, а онъ при ней… Гнать вонъ? Не велѣть принимать? Но вѣдь она двуличная, хитрая, коварная, она найдетъ средство съ нимъ видѣться. Отчего она, спрашивается, не сказала мнѣ вчера, что вотъ такъ и такъ, что у ней былъ романъ съ этимъ проклятымъ Петькой? Отчего не призналась? Видя ея откровенность, раскаяніе, я и не придалъ-бы этому серьезнаго значенія, ежели-бы она пообѣщалась забыть этого скота. Но нѣтъ, она и выходя за меня замужъ, въ знакомые его прочитъ, указываетъ, что на свадьбу пригласитъ. „Онъ, говоритъ, хорошій танцоръ, хорошій мазуристъ“. Не мазуристъ онъ, а мазурикъ»!
Иванъ Артамонычъ присѣлъ къ письменному столу, взялъ листокъ почтовой бумаги и приготовился писать.
«А вѣдь какъ хороша-то»! мелькнуло у него въ головѣ про Наденьку и передъ нимъ встала она въ своемъ пестромъ малороссійскомъ, костюмѣ, съ блестящими глазками, съ двумя толстыми косами, висящими по спинѣ — и онъ отложилъ бумагу въ сторону, но черезъ минуту опять придвинулъ ее къ себѣ.
— Нѣтъ, тутъ и думать нечего… Я ищу домашняго спокойствія, семейнаго счастія, а съ Наденькой ничего этого не будетъ. Надо отказаться, проговорилъ онъ мысленно и принялся писать.
Черезъ нѣсколько времени письмо было готово. Оно гласило слѣдующее:
«Милостивый государь Емельянъ Васильичъ! Очень мнѣ совѣстно писать вамъ отказъ, но по здравомъ обсужденіи я принужденъ отказаться отъ вашей дочери Надежды Емельяновны, ибо счастія и семейнаго спокойствія здѣсь не можетъ быть. Во-первыхъ, старъ я для вся, а во-вторыхъ какъ я вижу, ваша дочь не чувствуетъ ко мнѣ не только любви, но даже и расположенія. Въ доказательство прилагаю ея письма къ мерзавцу-гимназисту, который самъ-же мнѣ ихъ и переслалъ. Я сдѣлалъ вашей дочери подарокъ въ видѣ брилліантоваго браслета, но подарковъ назадъ не берутъ, а потому пусть онъ и останется ей подаркомъ, ежели она не захочетъ мнѣ его возвратить. Что-же касается до полутора тысячъ рублей, которыя я далъ уважаемой вашей супругѣ на приданое для Надежды Емельяновны, то деньги эти прошу васъ мнѣ возвратить, а ежели онѣ уже истрачены, то выдать на оную сумму законный вексель. Затѣмъ желаю счастія вашей дочери, благодарю за гостепріимство и остаюсь искренно преданный…»
Иванъ Артамонычъ подписалъ письмо, прочиталъ его и быстро заклеилъ въ конвертъ, бормоча себѣ подъ носъ:
— Такъ надо сдѣлать, такъ, иначе ничего не придумаешь.
Надписавъ конвертъ, онъ позвалъ кучера и послалъ съ нимъ письмо на дачу къ Емельяну Васильевичу.
— Фу! Какъ гора съ плечъ!… проговорилъ онъ тяжело вздохнувъ послѣ ухода кучера, что-то тяжелое отвалилось у него отъ сердца и на душѣ его сдѣлалось веселѣе. Онъ даже сталъ трубить на губахъ какой-то маршъ, съ большимъ аппетитомъ напился чаю и съѣлъ оставшійся отъ обѣда битокъ.
Часовъ около одиннадцати вечера вернулся кучеръ и принесъ конвертикъ, надписанный женской рукой. Въ конвертикѣ письма не было, но была простая росписка на полторы тысячи рублей, подписанная Анной Федоровной.
Иванъ Артамонычъ взялъ росписку, повертѣлъ ее и улыбнулся.
«Мужъ-то, небось, обязательства не выдалъ. Знаетъ, что въ случаѣ неуплаты я могу приступить къ его жалованью, а выдала жена, да и не вексель, а росписку, по которой, ежели мужъ не захочетъ уплачивать, мы гроша не получишь, подумалъ онъ и прибавилъ вслухъ:
— Впрочемъ, слава Богу, что я не зарвался и вовремя спохватился!
1891