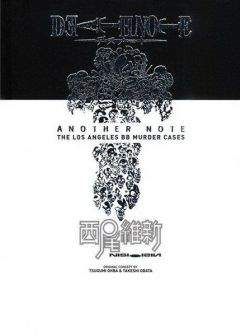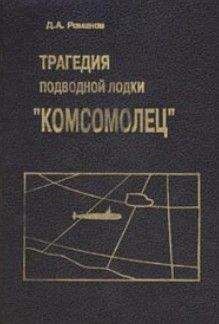Тогда Степан решился пойти в больницу. Завел разговор с Настей. Вроде случайно спросил, в какой Глафира лежит палате, сколько там окон и куда выходят - мол, светло ли ей там, - а сам соображал: второй этаж, окна во двор, если от угла считать - ее окно шестое. Настя еще тогда спросила: "Чего тебе ее окно? Стекольщик ты, что ли?" Степан отшутился, что Глаха, мол, по окнам главный специалист: ловка их мыть, а Настя - по паркету: до сих пор в клубе плашки дубовые под ногами гуляют, так надраила! На том разговор и кончили, а на следующий день Степан пошел в больницу.
В пятницу это было, в приемный день.
В одной половине больницы был лазарет, и на бульварчике шла бойкая мена: раненые промышляли махорки или чего покрепче, взамен совали солдатское бельишко и горбушки сбереженного хлеба.
У одного дошлого солдатика Степан приметил даже самодельные леденцы, вроде петушка на палочке. Сам, что ли, варил из пайкового сахара?
Степан потолкался внизу, у лестницы, в вестибюле, где стояла строгая тетка в белом халате и выспрашивала, кто к кому идет, а наверху, на лестничной площадке, белея нижними рубашками под серыми больничными халатами, облепили перила женщины и тянули шеи, выглядывая своих.
Глаши между ними быть не могло, она была лежачая, и Степан уже протолкался к тетке в белом халате, но как подумал, что сейчас она начнет пытать его: зачем, к кому да кем он Глаше приходится, плюнул на всю эту затею и ушел. Постоял у ворот, поглядел, как на скамейках бульварчика греются под нежарким солнцем раненые солдаты, устыдился и вернулся обратно в вестибюль. Под лестницей он увидел дверь. Это был ход во двор, и Степан направился туда.
Двор был большой, в глубине его виднелись какие-то приземистые постройки, пахло пригорелой кашей и каким-то особым больничным запахом. Не то лекарствами, не то еще чем-то.
В самом дальнем углу, чуть ли не вровень с землей, виднелась низенькая дверь, похожая на те, которые ведут в погреб. У дверей стояла запряженная в повозку тощая лошадь и хрумкала солому из подвязанной к морде мешочной торбы. Степан подошел поближе и увидел, что повозка доверху нагружена некрашеными гробами. Его метнуло в сторону. Стараясь не очень убыстрять шаг, он пошел к старым липам, что росли под окнами кирпичного здания больницы. Встал лицом к окнам, отсчитал от угла шестое окно на втором этаже. Забраться туда можно было и по водосточной трубе, но уж очень она была ненадежна на вид, ржавая и погнутая, а грохаться вниз на виду у всех - не больно-то это ему нужно!
Степан приглядел развесистую дуплистую липу, которая стояла неподалеку от Глашиной палаты, и прикинул, что если залезть на сук, что торчит в сторону, то вполне можно дотянуться до окна.
Поначалу лезть было легко, ветки шли частые и толстые, но, чем выше он забирался, тем становилось труднее, и он уже раздумывал, не спуститься ли и не пойти, как все люди, через дверь. Ноги соскальзывали, ветки под ними гнулись и ломались, а когда Степан наконец добрался до сука, то оказалось, что он почти без листьев и сухой.
Степан обхватил его двумя руками и покачал. Сук держался.
Степан осторожно встал на него и, ухватившись за верхние ветки, переступил сначала одной ногой, потом другой. Ему показалось, что сук затрещал. Степан остановился, раздумывая, и решил, что, в случае чего, подтянется на руках и как-нибудь перекинет ноги на ствол. Он сделал еще шаг, второй, опустил одну руку и пригнулся.
Прямо перед ним было окно палаты.
Палата была большая, коек на десять, и почти у каждой сидел на табурете посетитель, мужчина или женщина, разворачивали какие-то кулечки, вынимали из плетеных кошелок бутылки с самодельным квасом или синеватым молоком.
Лежащие все были на одно лицо, из-за белых ли бинтов или казенных байковых одеял. Степан искал среди них Глашу, не находил, решил уже, что перепутал палаты, когда увидел в углу, справа от окна, перебинтованную голову на подушке и ставшие еще больше серые Глашины глаза.
Не чувствуя занемевшей руки, Степан смотрел и смотрел на ее бледное лицо.
Она прикрыла глаза, но не уснула: даже отсюда Степан видел, как подрагивают ее ресницы. То ли ей было больно, то ли просто устала она от шума и даже закрыла ладонью лицо, заслоняясь от говора сидящих в палате людей. Рукав просторного халата соскользнул вниз, и Степан увидел ее похудевшую руку, такую непривычно незагорелую, без царапин, беспомощную в этой слабой своей белизне.
У каждой койки кто-то сидел, а она лежала одна, и, хотя Степан знал, что придут к ней сегодня тетя Катя или кто-нибудь из ребят, ему стало вдруг нестерпимо стыдно за себя и так жаль Глашу, что хоть сейчас тресни локтем в закрытое окно и влезай в палату.
Потом его как ударило: где ее коса? Должна же она где-то быть? Такую косищу не упрятать ни под какую повязку! И понял вдруг, что Глаша стрижена наголо, как после тифа. Остригли, наверно, когда делали операцию. И значит, операция эта была тяжкой! Какая же бывает легкая операция на голове? А он-то, он!..
Степан даже губу прокусил от стыда: "Как там Глаха? Чирикает?" Ему вдруг припомнилась повозка, груженная деревянными гробами, и он, уже с ужасом, вгляделся в опрокинутое на подушки лицо Глаши.
Она лежала все так же, прикрыв лицо рукой, и Степану хотелось закричать ей, чтобы она убрала руку и открыла глаза, он даже губами шевелил и не замечал этого. Еще немного - и закричал бы! Но в палату вошла медицинская сестра с какими-то металлическими штучками на подносе под салфеткой, прошла прямо к Глашиной койке, и Степан заметил, что, пока она проходила, в палате все примолкли.
Медсестра остановилась над Глашей и, видно, окликнула ее, потому что та опустила руку, и она как-то не легла, а упала поверх одеяла.
Медсестра подняла шприц, осторожно откинула одеяло и опустила с плеча Глаши халат.
Степан зажмурился, повис на затрещавшем суку и спрыгнул вниз. Он отбил себе пятки, и заболело в животе, но Степану хотелось, чтобы болело еще больше, чтобы он сломал себе ногу или руку или еще как-нибудь покалечился, будто от этого станет легче ему или Глаше.
Еле доплелся домой, завалился на железную скрипучую кровать и пролежал до вечера, повернувшись лицом к стене, не отвечая на встревоженные расспросы матери.
С того дня он в больнице больше не был, стал еще злей, переругался со всеми, дважды был в райкоме у Зайченко, требовал, чтобы его отправили на фронт, ничего не добился и ходил мрачнее тучи, даже почернел. Про Глашу ни у кого не спрашивал.
И вот завтра она выписывается!
Степан хотел узнать у матери, выпишут Глашу утром или после обеда, но решил, что разведает через Саньку Чижика. Главное - так исхитриться, чтобы увидеть ее раньше всех и чтобы Глаша догадалась, что он готовился к этой встрече.
Степан вспомнил вдруг солдатика с самодельными леденцами и заулыбался. Вытащил из укромного места выточенную им еще на заводе зажигалку, протер мягкой тряпочкой, полюбовался на собственную тонкую работу и спрятал под подушку. Потом принялся шарить в тумбочке, где отец, когда был жив, хранил свой сапожный инструмент.
Мать нахмурилась и спросила:
- Чего потерял?
- Ваксу мне надо... - сказал Степан. - Сапоги почистить.
- Чего это вдруг? - удивилась она. - Сроду не чистил!
- Конференция у нас завтра, - буркнул Степан. Взял баночку с засохшей ваксой, облезлую щетку и примостился на пороге.
- Опять конференция? - удивилась мать. - На двор иди чистить.
Степан только мотнул головой, поплевал в банку, надел сапог на руку и принялся орудовать щеткой.
Таисия Михайловна молча покачала головой и опять взялась за стирку. Степан поставил начищенные сапоги у кровати и сказал:
- Другое дело!
Оглядел себя с ног до головы в мутноватое зеркало и нахмурился.
- Штаны бы погладил, - посоветовала ему мать.
- А как? - обернулся к ней Степан.
- Сложи по складке, под мокрую тряпку - и утюгом, - объяснила она.
- Где она, складка-то? - безнадежно посмотрел на свои штаны Степан.
- Сделать надо! - засмеялась Таисия Михайловна и вздохнула. Отцовские бы дала, да проели... Может, пиджак возьмешь? В самую тебе пору.
- Ну, еще пиджак! - отмахнулся Степан. Подумал и согласился: Ладно!.. А рубашку синюю выстираешь?
- Стираю уже... - кивнула на корыто мать. - Завтра к вечеру выглажу.
- Мне утром надо, - забеспокоился Степан.
- Разве не вечером у вас конференция? - пряча улыбку, спросила она.
- Утром, - сказал Степан и отвернулся. Теперь у него покраснели уши. Это он знал точно! Они всегда у него краснели, когда он врал.
Таисия Михайловна смотрела на него и беззвучно смеялась...
Когда он вышел во двор в начищенных сапогах, синей наглаженной успела все-таки мать! - рубашке, в полосатом пиджаке, от которого попахивало нафталином, поджидавший его Санька только присвистнул. Он и сам приоделся в какую-то кацавейку, смахивающую на женскую кофту.
- Куда пойдем? - подбежал он к Степану.