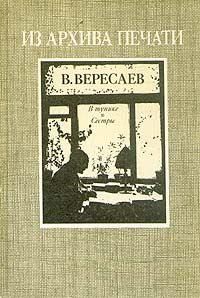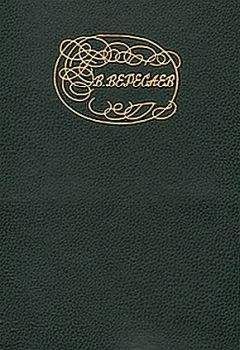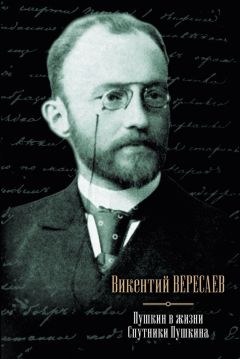Катя измученно засмеялась.
– Вот и давайте соединяться… Господи, что это?!
Через низкие ограды садов, пригнувшись, скакали всадники в папахах, трещали выстрелы, от хуторов бежали женщины и дети. Дорогу пересек черный, крючконосый человек с безумным лицом, за ним промчались два чеченца с волчьими глазами. Один нагнал его и ударил шашкой по чернокудрявой голове, человек покатился в овраг. Из окон убогих греческих хат летел скарб, на дворах шныряли гибкие фигуры горцев. Они увязывали узлы, навьючивали на лошадей. От двух хат на горе черными клубами валил дым.
И еще Катя увидела: старуха с растрепанными волосами, пронзительно крича, цеплялась за чеченца, а он тащил на руках в хату прелестную полуобнаженную девочку. В воздухе бились золотисто-смуглые руки, и выгибалась девическая грудь.
– Господи! Да что же это!
Катя хотела соскочить с линейки и броситься усовещивать чеченца. Ханов крепко охватил ее рукою и сильно ударил кнутом по лошадям. Они понесли под гору.
По дороге поспешно шел старик татарин с подстриженными усами, бледный и взволнованный. Катя крикнула ему:
– Слушайте, вы не знаете, что это там, из-за чего?
– Дикая езда приезжал. Греков порубал.
– За что? Садитесь к нам, расскажите. Ханов, можно?
Они поехали. Татарин сообщил, что недавно в соседней русской деревне мужики убили двух заночевавших офицеров, а трупы подбросили на хутора к грекам… Из города послали чеченцев для экзекуции.
Вечером Катя одиноко сидела на скамеечке у пляжа и горящими глазами смотрела в вольную даль моря. Крепкий лед, оковывавший ее душу, давал странные, пугавшие ее трещины. Она вспомнила, как ее охватило страстное желание остаться там, где люди, среди бодрящей прохлады утра, собирались бороться и умирать. И она спрашивала себя: если бы она верила в их дело, – отступилась ли бы она от него из-за тех злодейств, какие сегодня видела?
Было везде тихо, тихо. Как перед грозою, когда листья замрут, и даже пыль прижимается к земле. Дороги были пустынны, шоссе как вымерло. Стояла страстная неделя. Дни медленно проплывали – безветренные, сумрачные и теплые. На северо-востоке все время слышались в тишине глухие буханья. Одни говорили, – большевики обстреливают город, другие, – что это добровольцы взрывают за бухтою артиллерийские склады.
Дачники были в смятении. Болгары тоже чувствовали себя тревожно. Кучки бедноты стояли на деревенской улице и вполголоса переговаривались. По слухам, в соседней русской деревне уже образовался революционный комитет, туда приезжали большевистские агитаторы и говорили, чтобы не было погромов, что все – достояние государства. Крестьяне наносили им вина, хлеба, яиц, сала и отказались взять деньги.
В страстную пятницу Анна Ивановна ходила в потребиловку и принесла известие, что в кофейне Аврамиди сидит восемь большевистских разведчиков с винтовками.
Перед обедом Иван Ильич, в кожаных опорках и грязной, заплатанной рубахе, копал у себя на огороде грядки. Вдруг до него донесся надменно-повелительный голос:
– Эй, ты! Поди сюда!
Иван Ильич изумленно поднял голову. За проволочною оградою, сквозь нераспустившиеся ветки дикой маслины, виднелся на великолепной лошади всадник с офицерской кокардой, с карабином за плечами.
– Ну!! Живо!
Иван Ильич негодующе смотрел. Офицер сорвал с плеч винтовку и прицелился. Закусив губу, Иван Ильич медленно пошел к ограде. На шоссе были еще два всадника с винтовками.
– Что это за деревня? – Голос у офицера был взволнованный и решительный.
– Это не деревня, а дачный поселок Арматлук. Деревня там, за холмом.
Офицер разглядел лицо Ивана Ильича, увидел его очки и сразу стал вежлив.
– Скажите, пожалуйста, большая деревня?
– Большая.
– А жители кто?
– Больше болгары.
– Очень вам благодарен.
В этом надменном окрике и неожиданном переходе к вежливости и к «вы» только из-за очков Иван Ильич вдруг остро почувствовал тот старый, брезгливо огородившийся от народа мир, который был ему так ненавистен.
Офицер приложил руку к козырьку и вместе со своими спутниками медленно двинулся по шоссе к деревне. У поворота они остановились, долго разговаривали, поглядывая вперед, потом двинулись дальше. Иван Ильич в колебании смотрел им вслед. Они скрылись за холмом.
Иван Ильич трясущимися руками взялся за лопату. Вдруг за холмом затрещали выстрелы, послышалась частая дробь подков по шоссе. Пригнувшись к шеям лошадей, всадники карьером скакали назад. Офицер держал повод в правой руке, из левого плеча его текла кровь.
Настало светлое воскресение. Из-за моря встало яркое солнечное утро, синее небо сверкало. Добровольцы исчезли, – без шума, без грома исчезли, растаяли неслышно, как туман под солнцем. По шоссе непрерывною вереницею катились линейки и тачанки, на них густо сидели мужские фигуры в красных повязках, с винтовками. Молодежь, выкопав из земли запрятанные еще при немцах винтовки, отовсюду шла и ехала записываться в красную армию. По всей степи ярко цвели тюльпаны, алые, как свежая кровь. И повсюду горели букеты этих тюльпанов – в руках, в петлицах, на фуражках.
Промчался от города автомобиль с развевающимся красным флагом. На повороте шоссе автомобиль запыхтел, быстро заработал поршнями и остановился, окутавшись синим дымком. Поднялся с сиденья человек и стал громко говорить в толпу. Замелькали в воздухе белые листки воззваний, против ветра донесся восторженный крик: «ура!» Автомобиль помчался дальше.
Катя стояла у калитки сада и жадно смотрела на шоссе. Катилась мимо огромная, ликующая река, кипящая общим подъемом, а она одиноко стояла на берегу, чуждая и враждебная этому подъему. Вспомнились ей февральские дни в Москве, – как тогда было иначе! Как тогда билось сердце в один такт с огромным всенародным сердцем, как сладок был свист пуль над ухом на Каменном мосту, как незабываем этот подъем над обыденною, маленькою жизнью! И все, о чем так светло грезилось, – все это рухнуло, развалилось, все утонуло в трясине кровавой грязи…
Катя пошла в свою каморку за кухнею, села к открытому окну. Теплый ветерок слабо шевелил ее волосы. В саду, как невинные невесты, цвели белым своим цветом абрикосы. Чтобы отвлечься от того, что было в душе, Катя стала брать одну книгу за другою. Но, как с человеком, у которого нарывает палец, все время случается так, что он ушибается о предметы как раз этим пальцем, – так было теперь и с Катей.
Открыла «Жизнь Иисуса» Ренана и через две страницы натолкнулась:
«Есть люди, которые сожалеют, что французская революция несколько раз выходила из границ и что ее не совершили мудрые и умеренные люди. Не будем прикладывать наших маленьких программ рассудительных мещан к этим чрезвычайным движениям, стоящим столь высоко над нашим ростом. Контраст между идеалом и печальною действительностью всегда будет создавать в человечестве мятежи против холодного разума, считаемые посредственными людьми за безумие, – до того дня, когда эти восстания восторжествуют. Тогда те, кто сражался против них, первые признают в них высокий ум».
Открыла Герцена «С того берега»:
«Или вы не видите новых христиан, идущих разрушать? Они готовы. Они, как лава, тяжело шевелятся под землею, внутри города. Когда настанет их час, – Геркуланум и Помпея исчезнут, правый и виноватый погибнут рядом. Это будет не суд, не расправа, а катаклизм, переворот… Эта лава, эти варвары, этот новый мир, эти назареи, идущие покончить дряхлое и бессильное и расчистить место свежему и новому, ближе, нежели вы думаете».
Катя глубоко задумалась. Она ведь все это читала совсем недавно, – как же она не восприняла тогда, не почувствовала того, что написано так ясно и так страшно определенно?.. «Правый и виновный погибнут рядом, это будет не суд, не расправа, а катаклизм. Они ближе, нежели вы думаете»… И вот они пришли, – пришли именно такими, какими все их предвидели, принесли то, о чем сама она мечтала всю свою сознательную жизнь. А она стоит, чуждая им, и нет у нее в сердце ничего, кроме ужаса и брезгливого омерзения.
Под окном хрюкнул поросенок. Он подошел к миске с водою, попил немного, поддел миску пятаком и опрокинул ее. Катя вышла, почесала носком башмака брюхо поросенку. Он поспешно лег, вытянул ножки с копытцами и замер. Катя задумчиво водила носком по его розовому брюху с выступами сосков, а он лежал, закрыв глаза, и изредка блаженно похрюкивал. Куры обступили Катю и поглядывали на нее в ожидании корма.
Кате вдруг стало смешно. Ей представилось: все, что кругом, – как будто это тихая подводная пещерка глубоко-глубоко в море. Там, наверху, сшибаются вихри, чудовищные волны с ревом бросаются на небо, земля сотрясается, валятся скалы, поросшие вековым мохом, зловеще ползет по склонам огненная лава, – а тут, в пещерке, мирно плавают маленькие козявочки, копошатся в иле, сосут водоросли. И что сама она такая же маленькая козявочка. Ахнет в дно подземный удар, расколет пещерку, бросит в нее шипящую лаву, – козявочки опрокинутся на спину, подожмут лапки, удивятся и умрут.