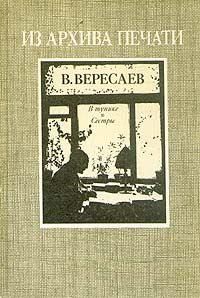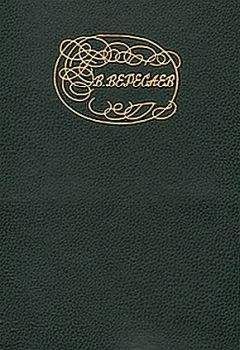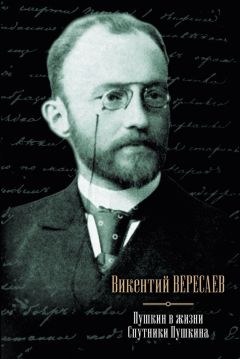Вечером к Ивану Ильичу пришел профессор Дмитревский. Он был слегка взволнован, и глаза его бегали.
– Пришел к вам посоветоваться. Сейчас на автомобиле приезжал ко мне из города представитель военно-революционного комитета, сообщил, что рабочие наметили меня кандидатом в комиссары народного просвещения. Спрашивал, пойду ли я. Что вы об этом думаете?
Иван Ильич расхохотался.
– А возможно просвещение, когда свободную мысль душат, когда издаваться могут только казенные газеты?
Профессор поспешно ответил:
– Я сказал, что подумаю, но что, во всяком случае, необходимое условие – свобода слова и печати, что иначе я просвещения не мыслю. Они заявили, что в принципе со мною совершенно согласны, что меры против печати принимаются только ввиду военного положения. Уверяли, что теперь большевики совсем не те, как в прошлом году, что они дорожат сотрудничеством интеллигенции. Через два два обещались приехать за ответом.
– И вы им верите? – смеялся Иван Ильич. – Мало они всех обманывали!
Заспорили жестоко. Катя энергически поддерживала профессора и доказывала, что нужно идти работать с большевиками. Иван Ильич с негодованием воскликнул:
– И ты – ты тоже бы пошла?
– Не пошла бы, а прямо и определенно пойду… Николай Елпидифорович, возьмите меня в свой комиссариат.
Профессор очень обрадовался. Он умиленно сказал:
– Славная вы девушка, Екатерина Ивановна! Если бы вы знали, как вы мне много даете!
Иван Ильич, ошеломленный, смотрел на Катю.
– Ты… ты вправду пойдешь?
– Обязательно!
Глубоко в глазах Ивана Ильича сверкнул тот же темный, сурово-беспощадный огонь, каким они загорались при упоминании о Вере. Он сгорбился и, волоча ноги, пошел к себе в спальню.
Приказ, за подписью коменданта Седого, объявлял, что, ввиду военного положения, гражданам запрещается выходить после девяти часов вечера. Замерло в поселке. Нигде не видно было огней. Тихо мерцала над горою ясная Венера, чуть шумел в темноте прибой. Из деревни доносились пьяные песни.
Была глухая ночь. На даче Агаповых все спали тревожным, прислушивающимся сном. В дверь террасы раздался осторожный стук. Потом еще. Агапов, трясущимися руками запахивая халат, подошел к двери и хриплым голосом спросил:
– Кто там?
Голос их кухарки, – кухня стояла отдельно от дома, – ответил:
– Барин, это я. Телеграмму почтальон принес.
Агапов отпер. Отстранив кухарку, в дверь быстро вошли три солдата с винтовками. Один, высокий, властно спросил:
– Ты – купец Агапов?
– Я.
Ноги затопали, три дула быстро вскинулись и уставились ему в грудь. Свеча в руке Агапова запрыгала.
– Погодите… Товарищи! В чем дело?
– Контрибуция на тебя наложена. Пять тысяч рублей.
Агапов ласково улыбнулся.
– Контрибуция? Превосходно. Раз наложена, то я что же? Я ничего возразить не могу… Сейчас вам вынесу.
Он торопливо вышел в дверь направо. Бледная кухарка тяжело вздыхала. Солдаты смотрели на блестящий паркет, на большой черный рояль. Высокий подошел к двери налево и открыл ее. За ним оба другие пошли. На потолке висел розовый фонарь. Девушка, с обнаженными руками и плечами, приподнявшись на постели, испуганно прислушивалась. Она вскрикнула и закрылась одеялом. Из темноты соседней комнаты женский голос спросил:
– Ася, что это ты?
– Что вам нужно? – спросила Ася.
Солдаты, не отвечая, стояли посреди комнаты и с жадным любопытством оглядывали бледные шелка кушеток, снимки с Беклина на стенах, кружева больших подушек вокруг черноволосой девичьей головки. Вдыхали розовый сумрак, пропитанный нежным ароматом.
В дверях ласково зажурчал голос Агапова:
– Товарищи, вот вам деньги. Пожалуйте в зал. Вы не беспокойтесь, тут вам делать нечего.
Из-за него выглядывала его жена, бледная, в ночной кофте.
Высокий коротко сказал:
– Обыск нужно сделать.
– Вы чего же ищете?
Солдат подумал.
– Оружие.
Он подошел к туалету и стал выдвигать ящички. Нашел два футляра с колечками и опустил колечки в карман. Венецианское зеркало туалета с невиданною четкостью отразило его лицо. Он выпрямился и подправил черные свои усики; заглянул в зеркало и другой солдат, совсем молодой. Его Агапов с удивлением вдруг узнал. Это был Мишка, сын штукатура Глухаря. И третьего он узнал – прыщеватого, с опухлым лицом: тоже деревенский, Левченко.
Глухарь взял со столика, около кровати, золотые часики.
– Борька, вот еще.
Высокий подошел. Он оглядел покрытую одеялом девушку.
– Что это у тебя на руке? Покажь.
Ася робко протянула нагую руку с гладким золотым браслетом.
– Сымай.
Она сняла и подала.
– Слазь с кровати. Обыск нужно сделать. Может, у тебя оружие под тюфяком.
Девушка растерянно приподнялась, закрываясь одеялом.
– Ну, ну, слазий!
Он сдернул одеяло. Как в горячем сне, был в глазах розовый, душистый сумрак, и белые девические плечи, и колеблющийся батист рубашки, гладкий на выпуклостях. Кружило голову от сладкого ощущения власти и нарушаемой запретности, и от выпитого вина, и от женской наготы. Мать закутала Асю одеялом. Из соседней комнаты вышла, наскоро одетая, Майя. Обе девушки сидели на кушетке, испуганные и прекрасные. Солдаты скидывали с их постелей белые простыни и тюфяки, полные тепла молодых тел, шарили в комодах и шкапах.
Потом они вышли в залу. Высокий сказал:
– До утра никому не выходить. И про все молчать. Коли станете рассказывать, воротимся и всех постреляем.
Они ушли, оставив дверь террасы настежь. Агапов запер дверь. Взволнованные, долго все сидели в Асиной спальне и обменивались впечатлениями. Кухарка рассказывала, как солдаты наставили на нее винтовки и принудили сказать про телеграмму. Валялись на полу затоптанные сапогами простыни, тонкий аромат духов мешался с запахом застарелого пота и винного перегара. Уже стало светать, когда все разошлись и легли спать.
Опять в дверь террасы раздался стук, – на этот раз сильный и властный. В спальне девушек голос с отчаянием сказал:
– Господи, когда же конец!
Вошли солдаты с винтовками и впереди – командир с револьвером у пояса.
– Оружие есть у вас? Бинокли, велосипеды? Военное обмундирование?
Агапов бледно и ласково улыбнулся.
– Этого ничего нету, товарищи. А золото, какое было, и наложенную контрибуцию сегодня ночью ваши уже взяли.
Командир, с седым клоком в темных волосах, удивленно поднял брови.
– Наши? Какую контрибуцию?
– Не знаю-с. Взыскали пять тысяч.
Командир закусил губу.
– Я сейчас велю выстроить перед вами весь наш отряд. Укажите, кто это сделал.
– Из вашего ли отряда, не знаю. Солдаты, но только здешние, деревенские.
– Кто такие?
– Извините, дал им слово их не называть.
– Все равно, назовете.
– Претензий на них я не имею.
– Я вас про это не спрашиваю. Потрудитесь назвать, кто такие.
Агапов огорченно улыбнулся и развел руками.
– Не могу-с!
– Товарищи, нарежьте в саду розог и снимите с него пиджак. Будем вас сечь, пока не назовете.
– Ну, это зачем же-с!.. Коли так, то, конечно… Глухарь Михайло, сын штукатура, и Левченко Игнат, недавно воротился из австрийского плена. Третьего не знаю, не здешний, – высокий, с черными усиками, товарищи называли его Борька.
– Хорошо. Сейчас сделаем у них обыск. К двенадцати часам приходите в ревком.
И, не делая обыска, они ушли.
Катя встала с солнцем. Выпустила и покормила кур. Роса блестела на листьях и траве. По затуманенной глади моря бегали под солнцем и ныряли тусклые красно-золотые змейки. По подъемам Кара-Агача клубились облака, но острая вершина его твердо темнела над розовым туманом.
Давно так сладко и так крепко Катя не спала, как в эту ночь. Тяжелый камень, много месяцев несознательно давивший душу, вчера вдруг сдвинулся, и душа, – помятая, слежавшаяся, – блаженно расправлялась, недоумевая и не веря свободе. Жадно дышала грудь крепким морским воздухом, солнце пело и звенело в душе. С Катей это часто бывало: вдруг как будто совсем другими стали глаза, все обычное, примелькавшееся встало пред ними, как только что возникшее чудо. Она неподвижно стояла среди сада и в остолбенении смотрела.
Медленно ступала по траве около колодца невиданно огромная и красивая птица с огненно-красной шеей, с пышным хвостом, отливавшим зеленою чернью… Петух? Это – «просто» петух? Миллионы лет, в муках, трудах и борьбе, создавалась из первобытной слизи эта сверкающая красота, – и вот шагает по траве простой петух, и никто не чувствует, во что обошелся он жизни и какой он чудесно-необычайный… Из косной земли выползло что-то гибкое, ярко-зеленое, живое, и светится под солнцем кустами барбариса. В тысячевековый миг с чудовищными усилиями слились друг с другом мертвые частицы, – и весело перебегает через шоссе осознавшая себя жизнь, забывшая о заплаченных судьбе невероятных своих страданиях. Смеется смуглое личико, тонкий стан качается, качаются на коромысле ведра, и сверкающие капли падают с них на дорогу.