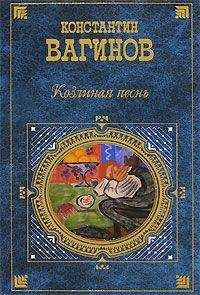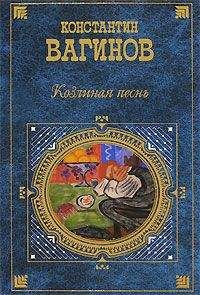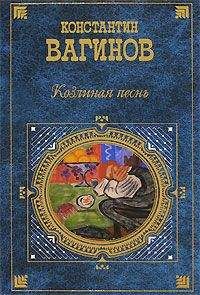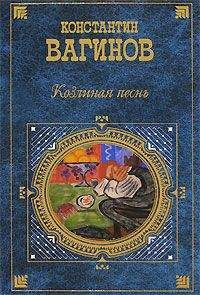Никто не знал, что здесь живет советский Калиостро.
Цветы в желтеньких горшочках стояли на окнах. Самозваный доктор философии гулял по саду и обдумывал план новой авантюры – гипнотического сеанса в Волхове.
Все знают Волхов, где дома стоят как бы на курьих ножках, где завклубом в день именин своей жены устраивает в клубе танцульки.
Куда приезжают фокусники раз в два года. Настоящих же актеров никогда не видел Волхов.
Добряк-циник гулял по саду и обдумывал. В комнате его дочери горела лампочка под розовым с букетами абажуром. Отец подошел к окну и заглянул. «Милое дитя, – подумал он, – ложится спать. Она не знает, как ее отцу тяжело достается его хлеб».
Советскому Калиостро было грустно в этот вечер.
По набережной спешил одинокий прохожий.
Прохожий чиркнул спичку и осветил вынутую из кармана бумажку.
Психачев узнал Свистонова и вышел за калитку.
– Вы ко мне? – спросил он.
– Нет, не к вам, – ответил Свистонов. – Я к вам завтра зайду. Сегодня я спешу в другой дом.
– Обманете, – махнул рукой Психачев.
– Однако у вас воняет, – сказал Свистонов, входя на следующий день и осматривая комнату. – Неужели вы никогда не раздеваетесь и сапог не снимаете? На этом диване вы спите? Ну и одеяльце у вас! Ух, устал я за сегодняшний день, уважаемый Владимир Евгеньевич!
Свистонов взял со стола карточку.
– А это вы ребенком?
– Будьте как дома, осматривайте.
– А в переписку свою дадите заглянуть? Письма к вам, от вас письма – все это очень интересно. Можно открыть? – спросил Свистонов, подходя к шкафу.
– Так, фрак, изъеденный молью… и цилиндр, должно быть, у вас сохранился? А где семейный альбом? – спросил Свистонов.
Хозяин удалился и принес альбом с лаковой крышкой. Гость перелистывал, рассматривал фотографические карточки, – мечтал. Психачев стоял у стола, подперев кулаками голову.
– Познакомьте меня с вашей семьей, – сказал Свистонов.
– Нет, этого никак нельзя… – зарумянился Владимир Евгеньевич.
– Папа, папа, тебя спрашивает графиня, – вбежала его четырнадцатилетняя дочь.
– Сейчас, Маша, – засуетился Психачев и нырнул в дверь.
– Познакомимтесь, – подошел Свистонов к подростку. Маша сделала книксен.
– Вы, должно быть, учитесь в трудовой школе? – спросил Свистонов, отпуская ее ручку.
– Нет, папа меня не пускает.
Свистонов смотрел на ее щупленькую и нарядную фигурку. Психачев вбежал.
– Уйди, уйди, Маша!
Дочь кокетливо посмотрела на Свистонова.
– Уйди, я тебе говорю.
Маша ушла. Но через минуту она опять вбежала.
– Папа, князь пришел.
– Ради бога, простите. – И взяв Машу за руку, снова нырнул Психачев в двери. Портьеры сомкнулись. Свистонов курил и ждал. Он бросил взгляд на корешки пыльных, заплесневелых книг. И стал читать названия.
– Что это вас все титулованные посещают?
– Это случайно, – сконфузившись, ответил Психачев.
– Ну ладно. Что же вы намерены мне рассказать?
– Вас интересует, кто с кем живет?
– Признаться, мало.
– Что же вас интересует?
– Ваши наблюдения за последние годы. Ваши чувства и мысли. Скажите, зачем вы стремились охаять науку?
– Я считал это оригинальным.
– Вы, конечно, в юности писали стихи?
– О триппере.
– Весело!
– Очень весело.
– Папа, папа, мама зовет, – раздался голос из-за двери.
– Сейчас, деточка.
Свистонов подошел к полке. Развернул Блока на закладке:
Уж не мечтать о нежности, о славе,
Все миновалось, молодость прошла!
Свистонова душил хохот. Он подошел к окну. Психачев внизу возвращался из кооператива с булкой.
У Психачева в комнате стояла библиотека по оккультизму, масонству, волшебству. Но Свистонов понимал, что Психачев не верит ни в оккультизм, ни в масонство, ни в магию.
Все люди любят рассматривать. Девушкам и женщинам нравится погрезить над модными журналами, инженеру – умилиться над изобретением заграничного двигателя, старичку – поплакать над фотографической карточкой умерших детей.
Психачев, покачивая головой, перелистывал изображения мандрагор, похожих на старцев, талисманов с солнцем, луной, Марсом, геомантических деревьев, таблицы сефиротов, изображения демонов, коренастого Азазелла, ведущего козла, мефистофелеподобного Габорима, летящего на змее, крылатого, с огромными глазами, слегка костлявого Астарота.
В юности Психачев хотел быть соблазнителем. В 1908-12 годах носил он даже белое платье и на голове черную бархатную шапочку с красным пером. Родные считали это причудой богатого человека.
Приятные ночи в молодости провел Психачев за трактатами об истинном способе заключать пакты с духами. Мечтательные ночи.
Среди обывателей он слыл за мистика. В молодости Психачеву это очень нравилось. Да и теперь нравилось, когда на него смотрели боязливо. Про него ходили слухи, что он иерофант какого-то таинственного ордена, что он поднялся по всем ступеням и наверху остановился. Он говорил, что он по происхождению фессалийский грек, а, как известно, Фессалия славилась своими чарами.
Действительно, в одной из комнаток его дома висели портреты екатерининского и александровского времен, гречанок и греков в париках и кафтанах, стояло перламутровое Распятие под стеклянным колпаком из-под часов, и был семейный альбом 30-х годов с акварелями, стихами, виньетками и греческая Библия с фамилиями Рали, Хари, Маразли.
Свистонов, осмотрев квартиру, полюбил советского Калиостро. «Как грустна его жизнь! – подумал он. – Что ему дает его слава советского Калиостро, когда он сам знает, что он самозванец, что он совсем не грек и не прорицатель, а просто Владимир Евгеньевич Психачев. Пусть даже римский папа присылает ему свое благословение ежегодно. Он-то ведь не верит в римского папу».
Сидя в спальне, под старинными портретами, хозяин и гость курили, пили водочку, заедали помидорами.
Психачев говорил о своем ордене. Свистонов, с наслаждением затягиваясь, курил и выпускал из ноздрей дым. Свистонов видел ночь Психачева, потому что в жизни каждого человека бывает великая ночь сомнения, за которой следуют победа или поражение. Ночь, которая может длиться месяцы и годы.
И вот эту-то ночь под шум речей Психачева пытался восстановить Свистонов. Тогда Психачев был молод, и листья по-другому шумели, и птицы иначе пели. Он верил, что ему удастся сорвать блестящий покров с мира, что он нечто вроде дьявола. Он ехал верхом на черном жеребце впереди кавалькады. Молодежь угощалась конфетами, подхлестывая лошадей, весело шутила.
Сердце Свистонова сжалось.
Собственно, не следует умалять труды и дни Свистонова. Его жизнь состояла не только в подслушивании разговоров, в охоте за людьми, но и в чрезвычайной зараженности ими, в известном духовном соучастии в их жизни. Поэтому, когда умирали его герои, нечто умирало и в Свистонове, когда отрекались они, известную долю отречения переживал и Свистонов. Кроме того, как ни странно на первый взгляд, Свистонов верил в магическую глубину слова.
Психачев, заметив, как побледнел Свистонов, подумал, что произвел сильное впечатление на гостя.
– Психачев-Рали-Хари-Маразли! – насмешливо прервал молчание Свистонов, – расскажите, как вы заключили пакт с дьяволом? Вы очень интересный человек, я охотно возьму вас в свой роман, – продолжал Свистонов.
Хозяин тихой квартиры совершенно ободрился Сладостная, торжественная, восхитительная музыка раздалась вокруг него и мало-помалу становилась все громче и громче, так что казалось, гармонические звуки ее наполняют всю комнату, и льются за окно в небольшой палисадник, и достигают стены соседнего дома. Подобную музыку слышат женихи и невесты, если они очень молоды и очень любят друг друга.
Психачев поднялся с кресла, выпрямился.
– Чтобы заключить пакт с одним из главных духов, я отправился, срезал новым ножом, еще не бывшим в употреблении, палочку дикого орешника, начертил в отдаленном месте треугольник, поставил две свечи, встал сам в треугольник и произнес великое обращение:
«Император Люцифер, господин всех духов непокорных, будь благосклонен к моему призыву…» Свистонов улыбнулся.
– Владимир Евгеньевич, я не о таком пакте вас спрашиваю, о внутреннем пакте.
– То есть как? – спросил Психачев.
– О мгновении, когда вы почувствовали, что потеряли волю, и поняли, что вы погибли, что вы – самозванец.
Музыка смолкла. Перед Психачевым сидел человек, пил водку и острил над ним. Психачеву стало все вдруг как-то противно, и он сам показался себе каким-то неинтересным. Но через минуту он заволновался.
– То есть как, что я – самозванец? – спросил он – Значит, вы не верите, что я доктор философии? – У хозяина лицо стало злым и недоброжелательным.
– Ах, нет, – ответил гость вежливо, – я совсем о другом. Вы называете себя мистиком. А может быть, вы совсем не мистик. Вы говорите: «Я – идеалист», а может быть, вы совсем не идеалист.