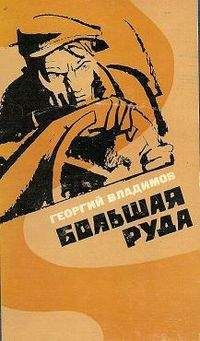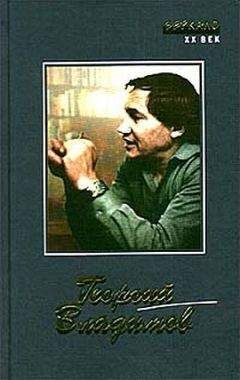Но на обратном пути тень большой тучи легла перед ним на дорогу, и, подъезжая к карьеру, он увидел на пустыре несколько машин.
— Шабаш, значит? — спросил он у Федьки.
— Шабаш, — подтвердил Федька. — Впервой, что ли. Вылазь, позагораем.
— А экскаваторы? — спросил Пронякин. — Работают?
Он спросил это просто так, он еще ничего не решил.
— А что машинистам-то? Им не ездить.
Пронякин мгновение помолчал. Он слушал, как ровно шумит двигатель и как тяжелые капли барабанят в пустом кузове. Потом он потянулся к рычагу скоростей и медленно убрал ногу с педали сцепления.
— Куда ты? — заорал Федька.
— Сделаю покамест одну ходку, — ответил Пронякин, не оборачиваясь. — А там поглядим.
— А чего глядеть-то?
Федька шел рядом с машиной.
— Ты едешь со мной, что ли?
— Что ты, я машины своей не губитель. И себе не губитель. И тебе бы тоже не советовал…
Все вдруг осталось позади. Пронякин спускался вниз по бетонке, уже покрывшейся прозрачным лаком. Навстречу ему выезжали последние машины, и карьер быстро пустел. Лишь стрекотал одинокий бульдозер да взрывники колдовали у своих буровых станков, напоминающих треноги зенитных пулеметов. Его «МАЗ» был единственной машиной, которая в этот час въезжала в карьер.
С колотящимся сердцем он прошел два витка, миновал опасное место у рыжего глиняного пласта, где крупные комья обрушились со склона и завалили полширины дороги, и стал, плавно заворачивая, спускаться к свинцово-голубым массивам келловея. Экскаватор стоял в знакомом забое, совсем расплывшийся в кисее дождя. Поодаль маячила согбенная фигура Антона. Он тащил, взвалив на плечо, толстые, черные, лоснящиеся провода. Должно быть, он готовился отключить моторы.
— Насыпай, что ли! — крикнул Пронякин, останавливаясь прямо против ковша.
Антон все тащил свои провода.
— Ты не оглох ли часом?
— А ты часом не сдурел? — спросил Антон.
— Не замечаю.
— А дождик замечаешь?
— И дождик не замечаю.
Антон сбросил провода на землю и молча, внимательно посмотрел на Пронякина. Затем легко вспрыгнул на гусеницу и исчез в будке. Пронякин ждал, когда он выйдет. Но он показался у пульта, за мокрыми стеклами.
— А что тебе Мацуев запоет? — спросил Антон.
— Арию Хозе из оперы Бизе.
— А ты ему что, Витя?
— Не знаю, — сказал Пронякин. — Не придумал. Наверное, «Тишину».
Антон постучал себя пальцем по лбу и уронил руки на рычаги. Экскаватор повернулся, дергаясь, и стрела пошла к груде породы.
— Рекорд ставишь? — спросил Антон, не переставая следить за ковшом. Никогда он так внимательно не следил, чтобы грунт сыпался по центру кузова.
— Ага, — сказал Пронякин. — Индивидуальный.
— Валяй, доказывай. Только гляди: не докажешь — разгружайся где-нибудь подальше. Моторы не отключать?
Пронякин секунду помедлил.
— Не отключай покамест. Я еще вернусь.
Струйки дождя изморщинили склон и пересекали дорогу. Но колеса не буксовали — он чувствовал это по шуму двигателя. Они не боялись воды, они боялись размокшей глины. Медленно, ощущая каждый оборот колеса, он прошел второй горизонт, и третий, и оттуда увидел весь карьер, затканный туманной сетью. Антон вышел из будки и, задрав голову, провожал его глазами. Пронякин помахал ему рукой, но тот не ответил. Взрывники оставив свои станки, тоже смотрели на Пронякина.
У рыжего пласта двигатель вдруг зачастил, как на холостом ходу, и комья глины, на которые смотрел Пронякин, вдруг замерли и поползли от него вверх, и он понял, что катит вниз юзом.
— Н-но, дура! — сказал он сквозь зубы и, быстро включив задний ход, сам покатил вниз, плавно притормаживая двигателем и постепенно возвращая себе власть над дорогой. — Так-то лучше, — сказал он, когда машина остановилась, и, вытерев лоб рукавом, снова послал машину вперед, вверх, выжимая и выжимая педаль подачи топлива.
Комья рыжей глины снова ползли под колеса, а потом перестали ползти, и двигатель взревел от ярости, которая передалась ему от водителя. Всей своей мощью он держал машину на месте, не отдавая ни сантиметра дороги, затем понемногу начал отвоевывать сантиметр за сантиметром, пока машина не пошла вперед, наращивая ход.
Пронякин посмотрел вниз. Антон и взрывники по-прежнему стояли неподвижно и смотрели на него. Он помахал им рукой, тогда они задвигались и разошлись. На пятом горизонте дорога стала положе, здесь ничего опасного не было, просто немножко узко, и нужно было держаться поближе к склону и не смотреть вниз. Он отвернулся и стал смотреть на откос, изборожденный ручейками, ожидая, когда он кончится и покажутся верхушки яблонь.
В конце выездной траншеи он увидел нескольких шоферов. Он сделал улыбающееся лицо и выставил руку вперед, на ветер. Но они не ответили на его улыбку. И кто-то из них протяжно, по-разбойничьи, свистнул. Это не могло не относиться к нему.
— Так! — сказал он громко самому себе. — Значит, так теперь? Ну хорошо!
Он провел по лицу ладонью, точно стирая горячую краску, и, поворачивая к отвалу, спросил себя:
— А ты чего хотел? Не любишь?
Дорога стремительно летела под колеса, и по тому, какой узкой она вдруг стала, он догадался, что идет с полной скоростью. «Вот так бы всегда ездить, — подумал он. — Никто не мешает!» Он подумал об этом без горечи, хотя свист еще стоял у него в ушах. Просто он любил ездить, не приноравливаясь к другим. Никто не пылил перед ним, не дымил в глаза, и впервые за эти дни он разглядел зеленое поле травы за обочинами, лиловую пашню далеко за оврагом и крохотную деревушку, лепившуюся на холме, среди густых садов.
Но кто-то шел навстречу, какая-то женщина плелась посередине дороги, прикрывая лицо от косого мокрого ветра брезентовым дождевиком. «Учетчица, верно, сбегает…» — решил Пронякин. Деревенские женщины не осмеливались так ходить по рудничным дорогам.
В нем шевельнулась привычная злость к дуракам пешеходам. Он тихо притормозил и подождал со злорадством, пока она не ткнулась плечом в радиатор. Она вскрикнула и шарахнулась, открывая лицо.
— Больно? — спросил он участливо.
— Дурак! — сказала она. Лицо у нее было мокрое.
— Не лайся. Давай в кабину.
— Чего я в твоей кабинке не видела? Я в контору иду.
— А кто на отвале вместо тебя?
— Никто не вместо меня. Чего мне там сидеть, раз никто не ездит.
— Я вот езжу, — сказал Пронякин.
— А ты чего ездишь? Тебя дождик не касается?
— Нет, — сказал он и помотал головой. — Меня не касается.
Она тоскливо посмотрела назад, на дорогу.
— Ладно, — он усмехнулся, — ступай в контору. Кто-нибудь мои ходки запишет.
Но она неожиданно вскарабкалась к нему в кабину и взгромоздилась на высокое сиденье, как усаживаются дети.
— Чего уж там, запишу. Может, ты рекорд какой ставишь. Только руками не тово, — предупредила она равнодушно.
— Нужна ты мне очень, — сказал он, косясь на круглое ее колено, и, потянувшись, прихлопнул дверцу.
Лакированная дорога опять бежала под колеса. Он повернул зеркальце и увидел нежную пушистую округлость щеки и печальные, выгоревшие на солнце ресницы.
— Где-то я тебя видел.
— А конечно, видел. Я ж воду на точке продавала около конторы. И я тебя видела. Все чистую пьют, по шесть стаканов, а с сиропом никто почти. А ты сразу два.
— А! — Теперь и он вспомнил ее. — Что же ты, бросила свою точку?
— Я с Манькой Клюшкиной поменялась. Надоело ей на отвале сидеть. Все упрашивала, ребенок у нее, ну вот я и согласилась.
— Что же тебе, интересно ходки наши записывать?
Она повела плечом и вздохнула.
— Крестики ставишь? — спросил он насмешливо.
— Не-а. Галочки.
— Великое дело! А Манька, значит, воду продает?
— А Манька воду.
— И не жалееешь, что поменялась?
— А что за нее держаться, за воду-то? Теперь уж зима скоро, кто ж ее будет пить?
— Тоже резон. Но ведь Манька-то не дура, не зря перешла, а?
Она опять вздохнула.
— Кто ее знает, Маньке, наверно, лучше будет. Точку на зиму в столовую перенесут, там тепло.
— А все-таки, — спросил он, — что же ты родилась, что ли, галочки ставить?
— А ты родился баранку крутить?
Он слегка смутился.
— Сравнила! Я дорогу люблю, ветер… Ну и вообще.
— А я здесь тоже не засижусь особенно. Думаешь, я за лишних двадцать рублей поменялась? Просто я из торга никогда бы на экскаватор не попала. А теперь, может, и попаду…
— А чего тебе делать там, на экскаваторе?
Она изумленно вскинула ресницы, и он тут же прикусил язык.
— Так ты ж сам же меня агитировал! Не помнишь? «Такая молодая, тебе бы на экскаватор пойти». Не говорил? Смеялся, да?
— Нет, — сказал он серьезно. — Это я теперь смеюсь.
Он высадил ее перед отвалом, и она, уныло ссутулившись, пошла под фанерный навес. Он вывалил грунт и, проезжая, увидел, как она сидит на ящике, поджимая ноги в парусиновых туфлях и спрятав руки в рукава. Он развернулся и подъехал.