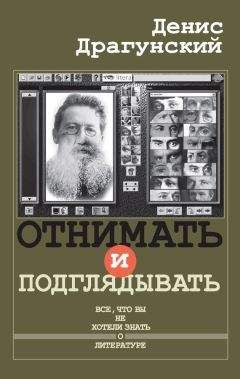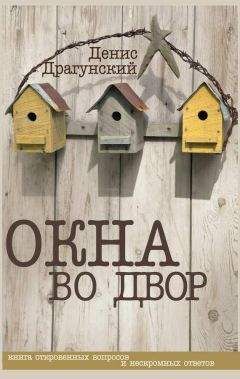теперь должна сделать? Махнуть рукой, забыть, как будто ничего не было? Чтоб ты и в следующую зиму спала на моей кровати, спала бы
в неприличном смысле слова неизвестно с кем? Или все-таки рассказать папе? Уж не знаю, что он решит. Наказать тебя плеткой по заднице он не имеет права — ты же такая же подданная Его Императорского Величества, как и он, как мы все. Но зачем наказывать? Вон дедушка выпорол управляющего еще до Рескрипта о свободе — он имел полное право, — но что хорошего? Что хорошего в порке, я тебя спрашиваю? Ровно ничего!
Я видела, что Грете уже сильно надоели мои рассуждения. Она переминалась с ноги на ногу. Может быть, ее кто-то ждал, может быть, она не верила в серьезность моих намерений. Обычно тот, кто болтает, — ничего не делает.
— Папа просто тебя уволит, — сказала я. — Выгонит со двора. Ты уедешь назад в родную деревню. Хочешь?
Она подняла на меня глаза:
— Барышня, я вам обещаю, что больше такого никогда не повторится. Клянусь вам Богом, клянусь вам Господом нашим и его Пречистой Матерью! Я никогда не войду в вашу комнату. И в другие комнаты тоже.
— Вот и хорошо, — сказала я. — Значит, ты во всем призналась. А то, понимаешь ли, «в каком смысле, где доказательства»? Грешники тоже разные бывают. Одни стоят на своей невиновности: «Не делал я этого, хоть убейте!» — врут Богу и людям, но уж зато крепко врут — с вранья не сдвинешь. А другие — бесстыдные и наглые — стоят на своем грехе. Вот он, мол, я какой — подлец и вор, разбойник и горжусь! Тоже интересно, правда? А есть вроде тебя. — Я встала на цыпочки и неизвестно зачем потрогала ей пальцем кончик носа, уперлась пальцем и поводила курносым Гретиным носом туда-сюда. — Сначала «в каком смысле? Где доказательства?», а потом «простите, Христом Богом умоляю!».
— Барышня, — вдруг совершенно серьезно и совсем другим голосом сказала Грета, — не надо меня выгонять. Я почти что сирота. Одна с больной бабкой. Это мне прокорм и ей тоже. Опять же девушек, которые поварихами в барском доме, в деревне все уважают. Барышня, что я должна сделать, чтобы вы не докладывали вашему папаше?
Ах, конечно же, в первую минуту мне захотелось обнять ее, расцеловать и сказать: «Забудем! Забудем, милая Грета! Я буду хвалить ваши салаты, чтоб папа наградил вас. Я завтра же передам корзиночку сладостей вашей больной бабушке, и вообще я вас люблю». Но я посмотрела на нее и сказала, вернее, повторила ее вопрос:
— Ты спрашиваешь, что ты должна сделать, чтобы я не докладывала папе о твоем возмутительном проступке? Да? Да?! В глаза смотри! Ты это спрашиваешь? Да?!
— Да, — ответила Грета.
— Я подумаю, — сказала я. — Подумаю и тебе скажу. А пока веди себя хорошо.
— Спасибо, барышня.
— Пока не за что, — сказала я. И, указав на табурет, добавила: — Пожалуйста, отнеси на место.
Но вернемся к Энею.
К нашему приезду все приводилось в порядок не только в доме, но и вокруг. К концу марта в наших краях уже начинала пробиваться трава и чуть-чуть зеленели деревья, поэтому садовники и сторожа собирали с земли упавшие за зиму ветки, сгребали остатки осенней листвы, подсыпали дорожки новым гравием, который возили из карьера в восьми верстах, подштукатуривали ворота, чистили решетку, а самое главное, снимали деревянные футляры и соломенные жгуты с прекрасных мраморных Энея и Дидоны.
Поэтому, когда мы въезжали в ворота, возвращаясь из Штефанбурга домой, Дидона и Эней встречали нас своими взглядами. Храбрым, устремленным вдаль, в будущее взглядом — Эней, жалобным взглядом брошенной женщины — Дидона.
Но я прекрасно помню дедушкин рассказ.
Дедушка говорил, что папе тогда было годика два или три и он ничего не помнит. А дедушка тогда был еще молод, бодр, силен и зол — и это последнее обстоятельство имеет немалое значение.
Однажды они возвращались из Штефанбурга (кажется, тогда они снимали там другую квартиру на зиму; даже не квартиру, а целый дом, но это сейчас неважно) — возвращались они из Штефанбурга, и, повернув на прямую аллею, ведущую к воротам, вдруг все хором ахнули: и дедушка, и бабушка (о которой я, впрочем, почти ничего не знала, кроме таких вот словечек «бабушка ахнула», «бабушка согласилась», «бабушке понравилось») и совсем маленький еще папа. Ахнул также кучер и, наверное, все, кто ехал сзади: кучера грузовых карет и слуги.
На правом столбе-постаменте стояла Дидона, а левый был пуст. Энея не было!
Они подъехали.
Дедушка распорядился начать разгрузку, вроде бы не подавая виду, что произошло нечто серьезное. Отвел бабушку в будуар, приказал принести ей легкую закуску (сам дедушка ел очень мало и обычно на ночь, а тогда был день. Дедушка рассказывал, времени было примерно час пополудни), сделал еще кое-какие распоряжения и наконец вызвал дворецкого и велел ему (тогда еще не было имперского рескрипта и крепостным слугам можно было приказывать) — и приказал ему сию же минуту позвать управляющего. Дворецкий сообщил, что это никак невозможно, ибо управляющего в настоящий момент хоронят.
— Вот прямо сейчас? — Дедушка помотал головой.
— Прямо сию минуту идет панихида, — сказал дворецкий.
— Ты хотел сказать «служат панихиду», — поправил его дедушка, любивший во всем точность.
— Никак нет, — сказал дворецкий. — Именно что идет, а не служат, ибо церковь запрещает отпевать самоубийц.
— За мной, — сказал дедушка.
Они с дворецким вышли на заднее крыльцо.
Дедушка велел подать ему лошадь. Через четверть часа они были в деревне, где гроб с телом управляющего, стоявший на козлах перед входом в его дом, уже совсем было собирались закрыть, чтобы везти на кладбище.
Дедушка подал знак отставить крышку в сторону, подошел к гробу и, заглянув в лицо усопшему, спросил:
— Николай, в чем дело? Что ты с собой натворил?
— Повесился, — ответил брат покойного, который стоял у маленькой группки людей слева от гроба, а дедушка подошел справа.
— Когда? — спросил дедушка.
— Третьего дня.
— Отчего же? — спросил дедушка, обращаясь к покойнику.
— Кувзары, — сказал брат покойного.
— Что кувзары? — переспросил дедушка.
— Украли статую и не отдают, — сказал мужик, уже другой.
— Николай к ним так и сяк, и просил, и денег сулил — не отдают, — сказал третий.
— Ну а вешаться чего ж? — сказал дедушка. — Разве я так уж гневлив?
— А то нет! — загалдели мужики. — Да и стыдно ему стало. Не усмотрел. За хозяина остался, а уважения не снискал.
Кувзары обычно никого не трогали.
Это была довольно большая и богатая деревня (она так и называлась