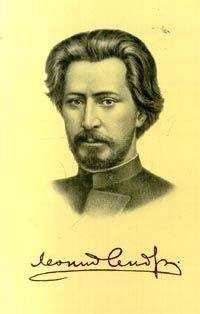Яков. Нет.
Василиса Петровна. Ты помни! Чтобы ни единой царапинки, слышишь? Чисто надо сделать, ах как чисто.
Яков. Чисто сделаю.
Василиса Петровна (все также тихо). Яшенька, что такое у меня внутри дрожит? Так дрожит и дрожит… холодно мне, что ли? Яшенька, ты себе бархатную поддевку сшей. Вот и опять, холодно мне, что ли? Яшенька, а я ему опять намекала, что завтра.
Яков. Эх, зачем, не надо было.
Василиса Петровна. Как не надо, Яков? Надо же намекнуть! Ходит человек и не знает. А ручкой-то он махал, Яшенька, ручкой-то махал.
Яков. Разлимонилась, бабочка! Ну, ну, подтянись, бабочка, эх… Маргарита Ивановна, а вы о чем?
Маргарита. Так. Василиса Петровна, а дети у вас были?
Василиса Петровна. Дети? Были да сплыли, голубушка. А тебе что?
Маргарита. Ничего. Ах, да и тоскую же я, родненькие мои, куда голову преклонить, не знаю. Яшенька, ты добрый?
Яков. Кто говорит добрый, а кто и злой. А вам какого надо?
Василиса Петровна. Он добрый. Яша, спел бы ты что-нибудь, голубчик.
Маргарита. А раз добрый, пойдем со мною, Яшенька.
Яков. Куда?
Маргарита. Куда-нибудь.
Смеется и плачет.
Яков. Что же, и это на худой конец дорога: кто туда, кто сюда, а мы никуда. Кто с нами? Прикажете плясовую, Маргарита Ивановна?
Василиса Петровна. Нет, нет, Яков, ни в каком случае. Ну, какой тут пляс!
Яков. Феофан еще рассердится: ишь, скажет, грешники распелись. Феофан! Попеть можно? Как это, по-твоему?
Феофан. Ну и пой. Я люблю, когда грешники поют. Я сам, когда грешен был, тоже пел. А когда пляшут, не люблю! Все черти пляшут.
Яков (настраивая балалайку). А ты видал?
Феофан. Я? Конечно, видал. О Господи. Какой у меня туман. Потеха!
Яков (поет). Эх, погиб я, мальчишечка, погиб я навсегда, а годы проходят, все лучшие года. Мать свою зарезал…
Обе женщины глубоко задумались; Василиса Петровна аккуратно вытирает платком слезу. При первых звуках балалайки из двери осторожно высунулся, потом вышел Кулабухов и также слушает. На него не обращают внимания.
Занавес
Время к полуночи. Поздняя осень.
На сцене пустынный московский переулок в Хамовниках. Идет переулок с горочки, по ложбинке, в глубине когда-то здесь бывшего оврага; и всю правую сторону занимает белая монастырская ограда, проходящая по верху заросшего травой невысокого вала. За оградой глухая, также белая стена церкви, а дальше смутно белеют колоколенки и главы, переплетаются голые ветви и стволы. Светят только два окраинных керосиновых фонаря; один стоит далеко, в глубине и на завороте переулка, другой помещается у левой панели и скупо озаряет передний план.
У самого фонаря, в тени, стоят и молча курят Яков и Феофан. С густым вздохом Феофан бросает папиросу и тушит ее ногой. Часы на колокольне вызванивают две четверти.
Яков. И так не разгорится, чего тушишь. Хорош табак?
Феофан. Хорош.
Яков. Хорош табачок.
Феофан. Да я не понимаю, курить не люблю. Мне Воронин-купец каких-то сигар дал, кто его знает, а толстые, как палец. Так у меня голова от них болела, было сдох. Куражиться ночью будешь?
Яков (бросает папиросу). Буду. Как это поется: «Ах, мамаша, глянь в окошко — ктой-то тонет на реке — в бледно-розовой рубашке — с папиросочкой в руке!» Куражиться буду, а тебя не возьму.
Феофан. Врешь. Ты теперь прогнать меня не можешь, я к тебе приставлен! Куда ты, туда я, а петь тебе здесь не место — не татарин.
Яков. Ладно. Надоел.
Феофан. И надоем! А мне за тобой легко при моем весе поспешать? — скачешь, как блоха. Пойдем нынче спать, а? Поспишь, милый, отдохнешь, а завтра и куражиться будешь. Хорошо как…
Яков. Ты спи, а я не хочу спать. Понял? Взялся за мной ходить, так и ходи, не клянчи. Я тебя еще бегать заставлю, ты мне, как рысак, заскачешь! Обличитель!
Феофан. И где у тебя совесть, Яков?!
Яков. На то я и грешник… Эй, ступай-ка, на угле меня подожди — идет.
Феофан. Кто идет?
Яков. А кому надо, тот и идет. Ну, живей оборачивайся, говорю.
Феофан неторопливо уходит, ждет Якова на угле. Нерешительно, оглядываясь, выходит справа Василиса Петровна, одетая прилично, в черном.
Василиса Петровна! Вот он, я.
Василиса Петровна. Здравствуй, Яша. Давно ждешь?
Яков. Давно уж.
Василиса Петровна. Опоздала я. С тобой кто-то был, мне показалось. Кто это?
Яков (нехотя смеется). Да Феофан.
Василиса Петровна. Опять он? Ну и чему ты смеешься, Яков, мне это очень не нравится. Теперь необходима такая осторожность, а ты!.. Зачем он с тобой, мало для тебя пьяниц?
Яков (также нехотя). Его уж спросите.
Василиса Петровна (испуганно). Он знает?
Яков. Нет, откуда же ему знать, когда никто не знает. А догадывается, пожалуй.
Василиса Петровна. Выдаст! Выдаст, вот увидишь! Ах, как же ты убийственно неосторожен, Яков! Что ж нам теперь делать? Вот ужас.
Яков. Да не выдаст. Вы его не знаете. Ему грешники непокаянные нужны, которых сосать можно, а явленные зачем ему? От явленных ему никакого удовольствия нет. Бросьте его: моя он забота, а не ваша. Что ж, бабочка, стоим? — Поедем куда или что?
Берет Василису Петровну за руку: Василиса Петровна испуганно и несколько брезгливо отдергивает руку.
Василиса Петровна. Нет, нет, что ты выдумал, Яков. Мы никуда не поедем! И ты, пожалуйста, не выдумывай этого — ехать.
Яков (согласно). Что ж, не надо ехать, так постоим. А может, и стоять не надо? Я, Василиса Петровна, на все согласен. Нашего Яшу хоть в пирог, хоть в кашу.
Василиса Петровна. Я знаю, ты очень добрый. И ты очень деликатный человек, Яков: я редко видала людей из высшего звания, которые были бы так деликатны. Да мы здесь побудем, мне надо. Тут никого? Ах, Яша, я так боюсь… ну, ну, ничего. Яков, а деньги ты хорошо устроил? Ты так легкомыслен, Яша.
Яков. Устроил.
Василиса Петровна. Помни же, что за мной еще твоих сорок тысяч. Я нарочно не даю их тебе, я просто не верю в твое благоразумие. Но если понадобится или вздумаешь солидно устроиться, то только скажи. Скажешь?
Яков. Ладно.
Василиса Петровна. Только слово скажи, понимаешь? И сейчас же деньги будут у тебя, а пока ты, конечно, получаешь на них проценты. Маргарита с тобой?
Яков. Со мной.
Василиса Петровна. Ну и хорошо, что с тобой. Только будь с ней осторожен, Яша: она девушка благородная, прекрасная девушка, но у нее бывают фантазии… Ты ее очень любишь, Яков?
Яков. Я всех люблю, Василиса Петровна.
Василиса Петровна вздыхает.
Василиса Петровна. Да, я знаю. Разошлись наши дороги, Яшенька… только бы тебя Бог устроил, день и ночь молюсь Ему об этом. Ты еще не знаешь, Яков, какая я благодарная, — и ты для меня навсегда первый в молитвах моих человек. Сперва за родителей, потом за Николая Ивановича — ты его не знаешь, Яша, был такой человек, — а потом за тебя, Яша, я и за Петра Кузьмича молюсь (крестится). Царство ему небесное и вечный покой.
Молчание. Часы бьют три четверти.
Яков. А какой ему Митька-наследник памятник ставит! Спрашивал я рабочих, говорят, тысяч тридцать стоить будет.
Василиса Петровна. А ты ходил разве?
Яков. С Феофаном ходили. На могилке посидели, папиросочку покурили, поплевали. Эх, Василиса Петровна, решил я окончательно, что и не человека я убил, а так, неведомую зверушку. То ли я на могилке сижу, ножки свесил, то ли на качелях качаюсь — одна во мне стать. Говорит Феофан, что совести, например, у меня нет… Что ж, может, и от этого, может, и от другого чего. Легко сказать, что совести нет, а куда она, например, могла деваться? У всех есть, а у меня нет. Василиса Петровна, а вот вы скажите: может быть человек на свете такой, чтобы совсем у него не было совести?
Василиса Петровна. Нет, не может.
Яков. Я и говорю, что не может: из одной земли все сделаны. Но только почему же, скажите мне, Василиса Петровна, не могу я почувствовать сожаления, ну тоски там, или хотя бы заплакать. Слез ли у меня нету? Вот, например, Маргарита Ивановна: ах, и до чего же она страдает! Ах, и до чего же она мучается!