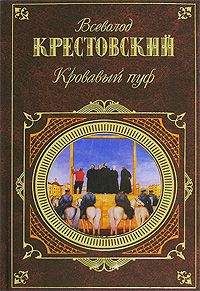Все это, как стадо баранов при степном пожаре, металось из стороны в сторону, не зная как быть, не понимая что делать.
Русская пехота с барабанным боем открыла энергическое наступление.
— Матка Божска!.. Пане москале, змилуйсен'! Ратуйтесен' панове!.. До лясу!.. Прендзей до лясу!.. Не даваць пардону! — носятся над повстанскими кучами разные голоса и возгласы.
Казаки Малявкина, оставя всех этих «несмертельных» и "красных чертей" на жертву гусарам, с фланга бросились лавой на польскую пехоту. В одну минуту и «тыральеры», и «косиньеры» образовали из себя какую-то жалкую кашу; одни кидались на колени и протягивали руки, взывая о пощаде, другие, побросав оружие, пустились что есть духу бежать под защиту леса.
— Прендко! — со смехом кричали им вослед казаки, действуя не столько шашкой, сколько нагайками по спинам. — Прендко, панове! Шибче беги! Утекай поскорее, а то вдругорядь не уйдешь!
Одна только кучка, человек в десять, лучших, наиболее храбрых людей, со всех сторон ощетинясь штыками да косами, стойко оставалась на месте, не подпуская к себе казаков. Душой этой горсти храбрецов был Бейгуш, под которым еще в самом начале дела была убита лошадь. Теперь же, в минуту крайней опасности, видя, что уже все гибнет, он схватил винтовку убитого стрелка и одушевленно кликнул клич окружавшим его людям; но из всей толпы едва лишь десять-двенадцать человек отозвались на призыв начальника. Несколько казаков гикали и кружились около ощетинившейся кучки, но ничего не могли с нею поделать, пока не подбежала пехота и кинулась на нее в рукопашную. Обе стороны дрались с остервенением, и в особенности повстанцы, для которых дело шло не о победе, а только о том, чтобы купить себе смерть возможно дорогой ценой. Тут беспощадно работали штыки и приклады, но эта ужасная, кровавая работа продолжалась не долго: в две-три минуты все было кончено, горсть храбрецов не существовала. Избитый прикладами и раненный штыком, Бейгуш упал, но не просил пощады. Один из солдат занес уже было над ним штык, чтобы «прикончить» его на месте, но к счастию или несчастию Бейгуша, молодой прапорщик, командовавший взводом, на долю которого досталась борьба с храброй кучкой, стремительно кинулся к солдату и в роковой момент отвел рукою штык в сторону.
— Не тронь! Это начальник! — закричал он. — Бери его в плен, ребята!.. Живьем бери!
Бейгуша подняли и взяли. Он не сопротивлялся и только кинул грустный взгляд на молодого офицера.
— Не благодарю вас: вы оказали мне очень дурную услугу, — проговорил он ему слабым голосом; но тот почти не слышал этих слов и вел своих людей далее.
Между тем гусары, после первого налета, рассеяв польскую кавалерию, рассеялись и сами по полю, преследуя и там, и здесь отдельные группы всадников.
Вдруг, Хвалынцев заметил, что мимо его, в нескольких шагах расстояния, одиноко несется красивый всадник, в руках которого развевается знакомое знамя. Этот всадник видимо торопился уйти с места сшибки, направляя своего коня в ту сторону, где отдельно от всех стояла скорбная и бледная Цезарина, которую ксендз Игнацы и английский грум с двух сторон умоляли пощадить себя, уходить, спасаться как можно скорее. Но она словно бы и не слыхала или не понимала ни просьб, ни доводов и продолжала стоять в каком-то немом и окаменелом состоянии.
Константин с первого взгляда узнал в лицо знаменоносца, и молнией сверкнуло в его голове воспоминание о нем, о Цезарине, о дуэли на узелок, и о словах "будет исполнено".
Какое-то странное чувство поднялось в его груди — чувство насмешливо-радостной злобы и презрения, желание мести и желание быть замеченным Цезариной.
Дав сильные шпоры коню, он в тот же миг безотчетно пустился в погоню за «хоронжим». Несколько сильных скачков — и его конь очутился рядом с Жозефом.
— А! з мартвых всталы?![271] — закричал, налетая на него Хвалынцев, и в тот же миг плашмя полоснул его по лицу саблей. Затем, делом одного мгновенья было перекинуть эфес в левую руку, а правою схватиться за древко. Константин на лету, упершись в стремя, рванул это древко с такой силой, что знамя очутилось в его руке, а пан Жозеф, потеряв баланс, вылетел из седла и шлепнулся на землю.
— Молодец, корнет! — где-то вдалеке за собою услыхал Хвалынцев ободряющий, веселый голос Ветохина.
Вся эта сцена произошла в нескольких саженях пред Цезариной.
Константин раздумчиво замедлился на мгновенье и… беззаветно поддался соблазну внезапно мелькнувшей ему мысли. Задержав коня, он тихо подъехал к Цезарине.
— Графиня, я сдержал свое слово! Как видите, я взял и несу ваше знамя…
Но вдруг раздался выстрел из револьвера, и в тот же миг Хвалынцев почувствовал, как что-то с необычайной силой ударило его в правую лопатку. Он коротко вскрикнул, зашатался в седле и поник головою. Рука его тихо выпустила знамя и, вместе с ним, Константин без чувств упал к ногам Цезарины.
— Честь спасена, графиня!.. Не знаю, я, кажется, ранен, но наше знамя не взято! Я возвратил его! — кричал поднявшийся из пыли Жозеф, подбегая к своей амазонке и потрясая револьвером, одно гнездо которого удачно было разряжено на Хвалынцеве.
— Подите прочь!.. На вашем лице виден след фухтеля, — с холодным презрением проговорила ему Цезарина и, отвернувшись, отъехала в сторону на своем Баязете.
В это время на Жозефа налетели два гусара, случайно видевшие издали его выстрел по Хвалынцеву.
— О, ля Бога!.. Змилуйсен', пане! — едва успел воскликнуть красивый знаменоносец, как острие пики сверкнуло у его груди, и в то ж мгновение выдернулось из нее, покрытое алою кровью.
Другой гусар, занеся свою саблю, подскакал к Цезарине, но вдруг рука его остановилась в самом начале разящего движения; осадив своего коня, рубака с самым наивным изумлением глядел в лицо увернувшейся и отскочившей женщины.
— Тьфу, ты черт! — воскликнул он наконец, оскалив широкой улыбкой свои белые зубы, — я думал что путное, а это баба!
И покачивая головою, гусар со смехом над своей ли неудачной попыткой, или над «бабой», которую принял за повстанца, отъехал прочь от Цезарины.
— О, ля Бога!.. Пани грабина! — с новыми мольбами приступил к ней чрез минуту бледный, перепуганный ксендз, который в то время, пока налетевший гусар предавался недоумению, успел вместе с грумом "дать драпака" в соседние ореховые кусты, но заметив оттуда, что опасность миновала, пересилил свой страх и вернулся к графине с последней попыткой. — О, ля Бога! — молил он чуть не со слезами. — Пощадите!.. вы губите даром и себя, и нас. Ну, что тут делать?!. Все кончено… ничего любопытного больше не будет… Умоляю в последний раз, ускачемте, пока есть время, пока нас не забрали!..
— Да, вы правы: больше здесь нечего делать! — с горечью вздохнула Цезарина, и дав хлыста Баязету, поскакала в кусты с ксендзом и грумом.
Через минуту она уже была среди густой чащи, совсем в стороне от того направления, по которому пехота русского отряда вела по лесу дальнейшее преследование рассеянной банды.
Граф Сченсный Маржецкий успел ускакать еще гораздо ранее, воспользовавшись той минутой, когда Цезарина, около которой он, сконфуженный и ничтожный, вертелся без всякого дела, предложила ему атаковать русских гусар. Граф Сченсный повез это приказание пану Копцу, а сам, под шумок, когда "несмертельные шквадроны" с гамом и гвалтом ринулись вперед, благоразумно ретировался в лесную чащу.
В боковом кармане его оставалось еще до девяти тысяч рублей "народовых денег", полученных на содержание банды, а с эдаким кушем, при некоторой удаче — лишь бы только москалей не встретить! — не трудно было пробраться за границу и, по примеру уже многих довудцев, на некоторое время зажить во все свое удовольствие где-нибудь в Дрездене или в Париже, вещая по курзалам да по клубам о своих подвигах во славу и за свободу дорогой "ойчизны".
Цезарине тоже вполне благополучно удалось ускакать с места боя, благодаря тому обстоятельству, что внимание двух гусар было отвлечено Хвалынцевым. Рядовой, заколовший Жозефа, тотчас же спрыгнул с коня и наклонился над своим офицером.
— Ваше благородие!.. Живы, аль померли? Эй, Лишухин! Чего зубы-то скалишь? Ступай живее сюда!.. Глянь-ка!.. корнета-то никак убило…
Лишухин, все еще ворча про «бабу», подъехал к товарищу и, с коня, внимательно посмотрел на лежавшего Константина.
— Подержи-ка повод, — обратился к нему первый гусар, отдавая свою лошадь, а сам попытался осторожно приподнять Хвалынцева за плечи.
Тот очнулся и застонал от мучительной боли.
— Виновати, ваше благородие!.. Одначе ж славу Богу… ваше благородие живы!.. А мы уж было подумали, что вы совсем тово… искренно обрадовался солдатик. — Скачи, Лишухин, доложи майору!
Гусар в ту ж минуту дал шпоры и, держа на поводу лошадь товарища, помчался отыскивать эскадронного командира.