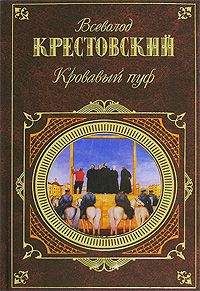Через несколько минут он отыскал его, доложил о ране корнета и проводил на место. Ветохин прискакал с ординарцами.
— Жив? — тревожно спросил он у остававшегося гусара, который, склонясь над Хвалынцевым, поддерживал на своем колене его голову.
— Так точно-с!.. изволят быть живы, ваше высокоблагородие!
Майор слез с коня и заботливо осмотрел раненого.
— Куда угораздило? — осведомился он с ласковой, ободряющей улыбкой.
— Не знаю… боль во всей спине, но… кажись, что в правую лопатку, — ответил тот, стараясь подавить в своем лице невольное выражение страдания и боли.
— Ну, в таком случае, поздравляю с первой боевой раной и с крестом за храбрость!.. Сколько могу судить, рана вероятно не опасная! — весело ободрял Ветохин, пожимая Хвалынцеву руку, и тотчас же сдал его на попечение одному из своих ординарцев, приказав взять под раненого телегу и как можно скорее привезти из обоза эскадронного фельдшера, чтобы на месте же сделать первую перевязку.
Везти раненых в Августов или в Сейны было гораздо дальше, чем в Гродну, а потому майор Ветохин предпочел этот последний пункт, в котором кстати находился и ближайший военный госпиталь со всеми необходимыми удобствами. Уже позднею ночью, по окончании дела, доставили в этот город русских и польских раненых, а также и гурьбу пленных, под достаточно сильным конвоем. Пленные немедленно были сданы в острог, раненых же разместили в обширном госпитале. Хвалынцева внесли на носилках в офицерские палаты, где нашлась для него свободная койка в особой комнате, а Бейгуша положили в арестантском отделении.
В числе убитых повстанцев пленные кавалеристы называли пана-полковника Копца и адъютанта Поля Секерко. Что же касается до ксендза Робака, то этот ловкий партизан-вешатель успел-таки скрыться с двумя или тремя из ближайших своих помощников, покинув всю остальную банду на жертву казакам.
Длинный переезд на тряской подводе, и притом в напрженном сидячем положении, так как рана не позволяла лежать на спине, истомил Хвалынцева до такой степени, что во дворе гродненского госпиталя его сняли с воза почти в бесчувственном состоянии. Дежурный ординатор, с помощью двух сонных фельдшеров, сделал ему новую перевязку и уложил, в сидячем положении, в особое покойное кресло на винтах, где Константин мог наименее испытывать страдания, причиняемые раной. Боль распространялась от лопатки на всю спину, страшно отдавалась в груди, в плече и совершенно парализовала правую руку, которая покоилась на широкой перевязи. Лежать ему можно было только на левом боку, да и то с трудом, так что он поневоле предпочитал сидячее положение, как наименее причинявшее страданий. Под утро, с помощью одного из наркотически-успокоительных средств, дежурному ординатору удалось погрузить Хвалынцева в сон, в котором сильно нуждался его организм, истомленный усталостью, болью и потерею крови.
Долго ли продолжалось это забытье болезненного и неровного сна, Константин не мог определить себе; но он пришел в сознание вследствие одного внешнего ощущения, которого менее всего мог ожидать в настоящем своем положении.
Он ясно почувствовал на своем лбу легкое прикосновение мягкой и нежной, как будто женской руки.
"Что это?.. Вправду, или только чудится?" смутно подумалось ему.
Он открыл глаза: дневной свет пробивался сквозь опущенную штору.
— Пить… пить хочу, — тихо произнес он, чувствуя жгучую, сильную жажду.
Чья-то заботливая рука осторожно поднесла к его пересохшим, лихорадочно воспламененным губам кружку лимонаду.
Он жадно приник к краю сосуда и медленными глотками стал утолять свой внутренний жар живительным и прохладным напитком. Рука, на которую невольно упади его взоры, показалась ему женской рукой… Бледная, молодая, изящна выточенная, с длинными, прекрасной формы пальцами… "Чья это рука?.. кто это?" вспало ему на мысль, и он, перестав пить, поднял глаза на стоявшую сбоку женщину.
Пред ним обрисовались строгие складки темно-коричневого платья, белая пелерина, белый фартук и белый чепец сестры милосердия.
"Но Боже мой, что ж это?!. Видение? сон? галлюцинация, или и точно правда?.." Точно ли въявь мелькнули ему знакомые, добрые черты прекрасного лица, — лица, некогда столь милого и дорогого?..
— Таня?!.. — смутно прошептал он, не веря глазам. — Таня… Татьяна Николаевна… Вы ли?
— Тсс… Не говорите… доктор запретил пока… Вам вредно! — заботливо предупредил его ласковый, нежный и давно знакомый голос.
Но он не мог успокоиться: явление этой девушки было столь неожиданно, казалось столь странным и почти сверхъестественным, что душой его овладело понятное смятение. Он все еще не верил ни глазам своим, ни слуху, и не мог сообразить что это значит, зачем, почему и какими судьбами эта девушка присутствует здесь, в госпитале, в такую минуту и в таком исключительном костюме?.. Он, полагавший ее за тридевять земель, в глухом поволжском городе, или в далекой степной деревне, вдруг воочию видит ее пред собой — и где же, и в какое время? — когда кругом кипит война, бушуют политические страсти, кишит измена, предательство, и каждый день обагряется кровью новых убийств…
— Господи!.. Что это мне чудится!.. К смерти, что ли?.. как бы про себя пробормотал он, не сводя с нее крайне изумленного и недоверчиво-тревожного взгляда.
— К жизни!.. к жизни! — порывисто и с глубоким внутренним убеждением прошептала она, стремительно бросаясь на колени пред его креслом и схватив его свободную, здоровую руку. — Ничего тут нет необыкновенного, — продолжала девушка, спеша вывести его из тревожного недоумения, — розно ничего!.. Я уже несколько недель здесь, в этом госпитале… Тетушка недавно умерла, я одна осталась — деваться некуда, а время теперь такое… нужное время — сами знаете… Я пошла в сестры… Предлагали мне в Вильну или в Варшаву, но я предпочла здесь, потому что здесь теперь Устинов служит… Он все же свой человек, близкий друг и предан мне… И все же не совсем уж одна я, при нем-то, на чужой стороне. Вот и только!.. И все, как видите, очень просто это… и ничего необыкновенного!.. Узнала сегодня, что в ночь привезли вас и выпросилась ухаживать… сказала, что старый знакомый… ну и позволили, слава Богу… Вот вам и все объяснение!
Татьяна видимо торопилась подробнее высказать и разъяснить Хвалынцеву все дело, чтобы ни минуты лишней не держать его в беспокойном состоянии сомнений и недоумения, так как это состояние могло бы вредно отозваться на его здоровье.
Он, не встречая сопротивления, приблизил к своим губам ее руку и молча приник к ней тихим, благодарным поцелуем.
На глаза его навернулись невольные слезы, а в уме, столь же невольно, возникло сопоставление двух женщин: одна встала пред ним со всем эффектным обаянием своей патриотической миссии, во всем поэтическом блеске заговорщицы, со всем обаянием красоты, пламенного энтузиазма, фанатической ненависти и коварства, — встала так, как еще вчера встретил он ее: под свистом пуль, среди лихой атаки, на ее кровном коне, в блестящем, хоть и несколько театральном костюме… И рядом с ней это строгое платье сестры милосердия, эта скромная, не бьющая ни на какой эффект нравственная чистота, любовь и христианское самоотвержение простой, бесхитростной русской женщины.
Только в эту минуту внутренно понял и оценил Хвалынцев разницу между той и другой. Хотелось ему сказать этой Тане: "Прости меня, если можешь!.. Я много виноват пред тобой, чистая, честная душа, и много за то наказан!" Но взглянул на нее еще раз и не сказал того, что хотелось. Слов не нужно было, потому что это доброе, спокойно светлое лицо и без того уже все было озарено кроткой улыбкой любви и прощения. Вместо слов ту же самую мысль высказал ей взгляд Хвалынцева, и девушка, казалось, женским чутьем своим угадала и сознательно почувствовала значение и поняла смысл его безмолвно говорящего взгляда. Она ответила ему тихим пожатием руки, и Константину показалось, что с этой минуты внутренний мир был заключен между ними.
Тихо скрипнула дверь, и позади Хвалынцева послышались чьи-то осторожные шаги.
— Не спит? — шепотом спросил мужской голос. Татьяна ответила отрицательным кивком головы.
— Здравствуйте, Хвалынцев!.. Узнаете старого знакомца?
Константин поднял глаза, и радостная улыбка засветилась на его страдающем лице: пред ним стоял доктор Холодец, все такой же бодрый, славный, симпатичный, как и в первую встречу. Больной слабо протянул ему свою здоровую руку.
— Ну, вот, сказывал я вам на прощанье, что только гора с горой не сойдется, а мы с вами наверное! И привел Бог, как видите, — говорил Холодец, подсаживаясь около него на табурет. — Что, батюшка, лопатку поляки царапнули? Ничего, починим! Придется только поистязать вас немного разными пластырями да перевязками, вообще пачкотней этой, — ну, да уж дело наше такое, без того невозможно.