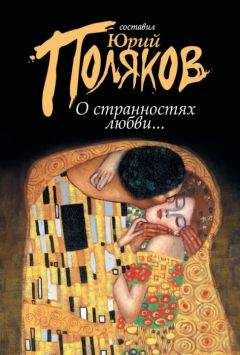— Нравится? — вслух спросил он невидимую Варю. — Вот. И ты не ищи меня тоже. Никогда! К черту!..
Вода у пирса была затянута атласно-радужной пленкой. Тонкими копьями ее пронизывали солнечные лучи и, уходя в синюю глубину, рассыпались там на мелкие блестки. Эта сочная гамма цветов и оттенков, эта слепящая игра бликов на бортах кораблей будили в Лобове безысходную тоску и чувство какой-то все нарастающей тревоги — ему впервые не хотелось перенести на холст это светлое чудо.
На одном свежепокрашенном траулере Лобов увидел громадного черного кота. Лениво изгибаясь и потягиваясь, кот медленно шел по самому краю пустынной палубы, и пушистый холеный хвост его изнеженно-грациозно закручивался в кольцо, и глаза светились, как пронизанные солнцем морские брызги.
— Гад! — неожиданно для себя сказал Лобов, вдруг жгуче возненавидев черного красавца. — Кот… Тебя любят потому, что люди в море одиноки, а ты…
Он не успел определить и осмыслить вину судового баловня перед моряками: в рубке, которую Лобов мысленно назвал будкой, кто-то притушенным, почти девичьим голосом запел удивительную по задушевности и откровенной жалобе песню:
Ты сегодня пьешь со мною снова,
Как давно не видел я тебя!
Но не будь так замкнута, сурова,
Не гляди с упреком на меня…
Лобов обессилено присел на бухту каната и, зажав в коленях свой огромный портфель, с тихой яростью принялся украдкой пинать его кулаком в то место, где лежали этюды.
4
Из порта в город он шел пешком. Он не знал, что будет делать там, но шел стремительно, с каким-то мстительно-сладострастным чувством, подставляя себя клубам веской апрельской пыли от проносившихся грузовиков. Он давно ощущал колющую резь в левой ноге — в ботинок заскочила каменная горошина и каталась там от носка к пятке и, приседая от боли, Лобов почти кричал:
— На! Вот тебе! Вот тебе!..
В город он вошел, когда позади, в море, в полнеба вспыхнул багровый закат. У моста через канал сидел рыбак. Рядом с ним малиновым огоньком отсвечивала стеклянная банка из-под маринованных огурцов. Из черной парусиновой сумки, лежавшей чуть позади рыбака, высовывался омертвелый хвост корюшки. Рыбака окружала толпа болельщиков и чьи-то спокойные и дородные жены заинтересованно щупали пухлыми пальцами золотой корюшкин хвост, а рыбак остервенело взмахивал удилищем, сочно и длинно сплевывал в воду, но молчал.
— Коровы! — сказал Лобов и заковылял к гостинице.
5
Поздним вечером Лобов спустился в ресторан и против своей воли вошел в зал надменно-небрежной походкой, которая как бы вопила о том, что он грядущий талант. Он только так входил в общественные заведения — иначе уже не мог: тело самостоятельно напрягалось и замирало в гордом ожидании смотрин.
— Ак-тер! Ак-тер! — сердцем кричал Лобов, но с походки не сбился. Столик же он выбрал в дальней углу за кадкой с пальмой. Девушка в сахарно-белой миткальной короне объявила ему сотра коньяков — были трех, четырех и пяти звездочек, и Лобов вслух сказал ей «разумеется, пяти», а мысленно себе — совсем другое, и после этого твердо знал, что напьется…
Было дымно, шумно и ярко. В стеклянных сосульках люстр бесновались крошечные радуги и блики. За столиками в тесной вольности сидели юные бородачи, далеко отставив, будто позабыв о них, тонкие ноги в высоких морских сапогах, похожих на ботфорты знаменитых мушкетеров. «Тоже во что-то играют», — солидарно подумал Лобов и большим круглым глотком выпил коньяк. Потом он надолго присмирел, оглушенный пахучим питьем, заколдованный блеском огней и своими мыслями о неизжитом с Варей. Кто-то дважды с настойчивой книжной галантностью сказал ему «простите». Лобов поднял голову и увидел перед собой старательную копию с портрета красивого и больного старинного писателя. Нет, поэта. Он писал стихи о смерти. У него была короткая и звучная фамилия. И борода… Да, Надсон!
— Простите… Вы верите в любовь? — трезво спросил Надсон. В его длинных зеленых глазах столько было нарочитой отрешенности, угрюмости и еще чего-то очень знакомого Лобову, что он, как от удара, подобрался и раздельно, сквозь зубы, сказал:
— Ерунда! Не верю ни во что!
— Да?.. Я тоже! — растерянно произнес Надсон и покраснел. — Если позволите, я перейду за ваш столик. Можно?
— Валяйте, — разрешил Лобов и тот прошел в противоположный угол и понес через зал янтарный графинчик, тарелку с черной колбасой, и мизинец его левой руки, обхватившей хрустальное горло графина, картинно оттопыривался и вилял. Стоя, Надсон начал наполнять свою рюмку каким-то особенным наклоном графина, и он заворковал и заходил в его руке, как живой.
— Жаворонок, — сказал Надсон, а Лобов разом почему-то вспомнил, что это из Хемингуэя.
6
Они пили каждый свое и Надсон с гневно-подвывной страстью читал короткие, великолепно гремучие стихи. Лобов долго смотрел на его пушистые длинные волосы — в них запутались блики люстр — и вдруг спросил:
— Ваши?
Надсон скользнул по его лицу прискорбным взглядом и прочел новый стих.
— Хорошо! — искренне сказал Лобов.
— Бред! Это бездарно! — изнеможденно проговорил Надсон и пальцами прикрыл глаза. — Вас привлекает в этих произведениях лишь гражданская смелость. Только!
— Но стишки ваши? — опять спросил Лобов и выпил подряд две рюмки.
— Нет, ваши! — с ребяческой непосредственностью обиделся собеседник.
— Где печатаетесь?
— Вы провинциальный младенец! И вы, конечно, учитель, да?
— Черта с два! — сказал Лобов. — Я художник. И тоже талантливый. Поняли? Где печатаетесь?
— Вот тут! — показал Надсон на сердце Лобова. — Разве вам неизвестно, что в наших журналах давно поделена земля? Между теми, что славили когда-то султанов, ханов и вождей!.. И нам, молодым и талантливым, никогда не перекричать хрипный хор этих старцев, поющих аллилую!
Он притаился в ожидании утешений, глядя куда-то поверх голов «морских волков», но Лобов молчал, и тогда он крикнул с вызовом:
— Пальто пропиваю!
— И наплевать! — безучастно буркнул Лобов.
— Наверно, из комсомола выгонят!
— И пусть!
Медленно и с бережной осторожностью, как полную рюмку с последним коньяком, Надсон поднес свою голову к лицу Лобова и спросил ошеломленно, шепотом:
— Вы что, бухой или… холодный дурак?
— Ак-теришка! — сумасшедше сказал Лобов. — Талантливый кот с изумрудными глазами! Чуть-чуть научился марать бумагу и уже подавай тебе на терзания в няньки жену, друзей и государство!.. Кот с изумрудными глазами… Пшел вон, ну?!
7
Остаток ночи Лобов провел на берегу канала. В черной недвижной глади воды покойно догорали отсветы фонарей. Стихи, которые поселились в сердце Лобова с детства, были намного грустны, и все они оканчивались двумя строчками из Вариного письма. В девять часов Лобов пришел на почту и заполнил пачку телеграфных бланков с различными адресами и единым текстом — «Ты одна мне радость и отрада, ты одна мне насказанный свет». Женщина в черном атласном халате неторопливо и хмуро начала перечитывать все бланки, а Лобов прикрыл глаза пальцами и перестал дышать. «Неужели не примет? Неужели конец, потому что иначе Варя не вернется? Иначе нельзя ей писать! Нельзя! Как я объясню это почтарям?»
— Восемь рублей двадцать четыре копейки, — сказала женщина и вздохнула.
Поезд на Вильнюс отходил днем.
Было начало апреля, и вербы отряхали пушистые серьги, и по откосам дороги в черно-серых фраках гордо расхаживали скворцы, и рядом с составом по юной траве бежали и бежали солнечные блики, и Лобов знал, что никакому черту не дано погасить их пронзительный свет.
Василий Шукшин. Жена мужа в Париж провожала
Каждую неделю, в субботу вечером, Колька Паратов дает во дворе концерт.
Выносит трехрядку с малиновым мехом, разворачивает ее, и:
А жена мужа в Париж провожала,
Насушила ему сухарей…
При игре Колька, смешно отклячив зад, пританцовывает.
Тара-рам, тара-рам, тара та-та-ра… рам,
Тари-рам, тари-рам, та-та-та…
Старушки, что во множестве выползают вечером во двор, смеются.
Ребятишки, которых еще не загнали по домам, тоже смеются.
А сама потихоньку шептала:
«Унеси тебя черт поскорей!»
Тара-рам, тара-рам, та-та-ра-ра…
Колька — обаятельный парень, сероглазый, чуть скуластый, с льняным чубариком-чубчиком. Хоть невысок ростом, но какой-то очень надежный, крепкий сибирячок, каких запомнила Москва 1941 года, когда такие вот, ясноглазые, в белых полушубках, день и ночь шли и шли по улицам, одним своим видом успокаивая большой город.
— Коль, цыганочку!