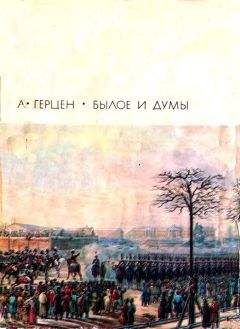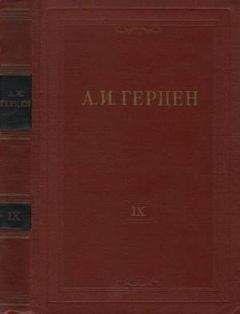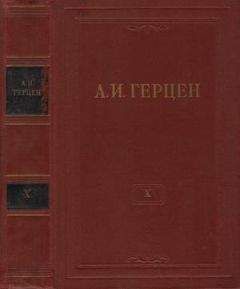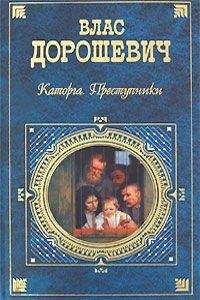Дело шло о «дворянине Сухово-Кобылине, обвиняемом в убийстве при посредстве своих крепостных находившейся с ним в противозаконной связи француженки Симон Диманш».
— Зачем он приезжал ночью к обер-полицмейстеру?
Сухово-Кобылин и его крепостные сидели в тюрьме и были накануне каторги.
Родные его продолжали хлопотать, и вот, наконец, после бесконечных мытарств было постановлено сенатом «обратить дело к переследованию и постановлению новых решений, не стесняясь прежними».
В конце концов начали с того, с чего следовало начать, с начала самого начала, — это, впрочем, и теперь случается, — с исследования кровавых пятен.
По исследованию «медицинской конторы» оказалось, что кровь была куриная.
Комната, где найдены пятна, была людскою.
Это подтверждало первое показание повара. Он показал, что зимой резал обыкновенно птицу в людской,
Но откуда же явилось сознание крепостной прислуги?
Следствие обнаружило, что сознание это было вынуждено у людей в квартале пытками.
Квартальный надзиратель, как оказалось, кормил их селёдками и не давал пить, подтягивал допрашиваемых на блоках к потолку, так что у несчастных плечевые кости выходили из суставов, и требовал:
— Сознавайтесь, что убили!
Так было добыто «сознание».
— Имейте в виду, — говорил при этом «сознавшимся» квартальный надзиратель, — и следователям, и судьям показывайте точно так же. Измените показание, — опять вас к нам пришлют, и мы вас опять так пытать будем.
Крепостные и повторяли всем от страха «оговор на себя».
Только на одно не шли. эти несчастные в своей «рабьей верности»: как ни пытал их квартальный надзиратель «показать на барина», они и под пыткой твердили:
— Барин ни при чём!
Когда новое следствие раскрыло всё это, состоялся приговор.
Дворянина Сухово-Кобылина и его крепостных слуг, как невиновных, отпустить, дело о смерти француженки Симон Диманш предать воле Божией, а квартального надзирателя за допущенные им при допросе пытки и истязания с целью вынудить ложное сознание, лишить прав состояния и сослать на поселение в отдалённейшие места Сибири.
Вот трагедия, которой обязаны мы появлением трёх пьес Сухово-Кобылина.
Сидя в тюрьме, он от скуки рассказал в драматической форме ходивший в то время по городу анекдот об одном очень светском господине, оказавшемся шулером, который заложил известному дисконтёру стразовую булавку за брильянтовую. Так получилась «Свадьба Кречинского».
«Дело» — самая сильная, самая страстная из пьес Сухово-Кобылина. В ней вы найдёте отголосок того, что ему самому пришлось пережить в собственном «деле». Недаром в предисловии к этой страшной пьесе А. В. Сухово-Кобылин писал:
«Если бы кто-либо усомнился в действительности, а тем паче в возможности описываемых мною событий, то я объявляю, что имею под рукою факты довольно ярких колеров, чтоб уверить всякое неверие, что я ничего невозможного не выдумал и несбыточного не соплёл».
Вспомните самое возникновение «Дела».
«Дело» — возникает по доносу Расплюева на то, что Лидочка сама «запутала» себя, сказавши будто бы:
— Это моя ошибка.
Пользуясь этим, запутывают в «Дело» человека, с которого можно поживиться.
Сравните это с тем, как Сухово-Кобылин «сам себя запутал в дело», — ночью поехавши к обер-полицмейстеру.
В сценах допроса Тарелкина на дому и допроса в квартале, в «Смерти Тарелкина», несомненно, отразились сцены допроса в квартале крепостных Сухово-Кобылина.
Тюремной тоске обязаны мы «Свадьбой Кречинского», — и крик протеста, вопль измученного человека — эти две пьесы — «Дело» и «Смерть Тарелкина», в которых Сухово-Кобылин позорным клеймом, несмываемым клеймом сатиры, заклеймил «доброе, старое», слава Богу, «отжитое» уже время.
Я помню одну встречу с профессором А. И. Марковичем.
Это было в одесском литературно-художественном обществе.
Усталый, обливаясь потом, шёл толстый Маркевич из зала с провинившимся видом.
Он только прочитал лекцию о Золя.
Из зала толпой валили слушатели, и Маркевич, мне показалось, избегает смотреть на них: словно он сделал им какую-то неприятность.
При появлении профессора на кафедре переполненный зал встретил его громом аплодисментов. Профессор долго не мог начать. Все приветствовали.
Когда он кончил лекцию, раздалось всего несколько хлопков.
А лекция была превосходна.
— Что случилось, профессор?
Он улыбнулся сконфуженной, прямо страдающей улыбкой и извиняющимся голосом сказал:
— Длинна лекция вышла. Два часа. Длинна!
— Что за пустяки, простите, Алексей Иванович! Весь Золя в два часа! Как же вы его меньше-то уложите?
Маркевич развёл руками:
— Длинна! Длинна!
— Так вы бы сделали перерыв!
Он сделал озабоченное лицо.
— Нельзя перерыв! Раз уж они попали в залу, — им надо всё сказать. А то в антракте они разбегутся и на вторую половину не придут!
Публика расходилась, действительно, негодующая:
— Два часа!
— Битых два часа!
Это говорилось нарочно громче, чтоб виновный профессор слышал.
Чтобы наказать.
Все торопились. Одни составить грошовый винтик, другие в дальнюю комнату рвать друг у друга последний рублишко в баккара, третьи в буфет — подкреплять свои силы, словно они только что с тяжёлой работы, четвёртые флиртовать с итальянским тенором, который валялся на диване, задрав ногу на ногу, в выглядывавшей из-под грязной рубашки пропотевшей фуфайке, и грязными ногтями почёсывал в нечистых волосах.
А Маркевич, как Чацкий, один, брошенный, стоял среди гостиной.
Это была комичнейшая иллюстрация к великолепной комедии.
Глядь!..
(Оглядывается. Старики разбрелись по карточным столам, молодёжь кружится в вальсе).
И толстый, пожилой Чацкий, отирая лившийся градом пот со лба, пошёл в буфет отпиваться содовой водой.
Лекция Маркевича была блестяща. Критический очерк на редкость по глубине, силе, красоте. Публика была интеллигентная. Сюжет — захватывающего интереса. Лектор был Маркевич блестящий. Публика профессора Маркевича очень любила.
Но два часа!
— Маркевич лекцию читает! Необходимо пойти! Нельзя не пойти! Стыдно не пойти!
Маркевич вышел на кафедру.
— Любимый профессор! Овацию нужно! Аплодировать! Десять минут аплодировать! Браво, Маркевич! Браво! Господа, ещё! Мало этого! Овацию! Грандиозную овацию!
Но вместо того, чтоб поиграть сюжетом, сказать несколько фраз бойких, эффектных, блестящих, которые можно было бы прерывать аплодисментами, поклониться и уйти, он начал говорить обстоятельно, серьёзно, глубоко.
Публика обиделась:
— Здесь не университет! Мы не учиться пришли! Нас учить нечего!
Этого даже любимому профессору простить невозможно:
— Будь профессором, — твоё дело! но этим не злоупотребляй! Простых людей притеснять не смей! Что это? Заманил «обаянием своего имени», воспользовавшись этим, учить начал? Два часа учил!
Это даже коварство.
Если ты «популярный», выйди, блесни очаровательно и уйди. Но уйди!
Тогда у всякого останется самое лучшее впечатление.
— Ну, что лекция Маркевича?
— Ах, знаете, изумительно! Мы его такой овацией встретили! Такой овацией! Я все ладони отхлопал!
— Маркевичу! Следует!
— И какой лектор! Я просто не заметил, как время пролетело! Блеск! Блеск, знаете! Не успел оглянуться! Когда он ещё читать будет? Непременно пойду.
— И я!
— И я! Разумеется!
А тут…
Я не удержался и сказал Маркевичу:
— А знаете, Алексей Иванович, теперь после вашей лекции ведь публика Золя возненавидит! Назло вам возненавидит!
Этот добродушный и милый толстяк расхохотался:
— А что? Ведь, действительно, возненавидит!
Он закатывался, хохотал:
— Вот так услугу оказал писателю!
И беспомощно разводил руками:
— Не умею я для них читать, как следует!
Как следует?
Один из одесских издателей при мне умолял сотрудника:
— Голубчик, вопрос важный! О нём надо написать умно. Глубоко! Обстоятельно! Тепло чтобы было. Сильно. И чтоб не больше двадцати строк! Главное, чтоб было не больше двадцати строк.
— На двадцать трудно! — уныло говорил сотрудник.
— Голубушка, длинного не читают! Ведь публика на газету как? Как воробей на окошко! Клюнул и улетел. Цоп, схватил и упорхнул. Воробей! Ему крошка нужна. Крошка, голубушка!
— Да ведь из двадцати строк ничего не узнают!
Издатель схватился за голову в отчаянии: «вот на непонятливого человека напал».
— Да кто нынче что хочет знать!
Он стонал:
— Кто нынче знать хочет? Кому нынче знать что нужно? Обижаются: «учат!» — говорят. Как надо писать? Сверкнул, — и исчез! Читатель, — взглянул, пробежал и доволен: «Я и сам так думал! Молодцом пишет! Как в объявлении: мало строк и всё содержание!» В этом весь секрет успеха. А разговаривать публика с собой не позволяет!