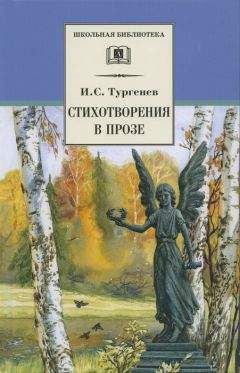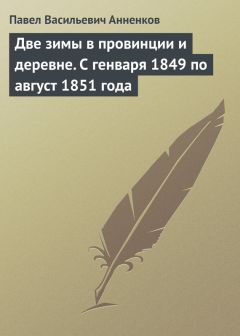Не спорь только с Владимиром Стасовым!
Июнь, 1878
«О моя молодость! О моя свежесть!»
Гоголь
«О моя молодость! о моя свежесть!» – восклицал и я когда-то.
Но когда я произносил это восклицание – я сам еще был молод и свеж.
Мне просто хотелось тогда побаловать самого себя грустным чувством – пожалеть о себе въявь, порадоваться втайне.
Теперь я молчу и не сокрушаюсь вслух о тех утратах… Они и так грызут меня постоянно, глухою грызью.
«Эх! лучше не думать!» – уверяют мужики.
Июнь, 1878
То не ласточка щебетунья, не резвая касаточка тонким крепким клювом себе в твердой скале гнездышко выдолбила…
То с чужой жестокой семьей ты понемногу сжилась да освоилась, моя терпеливая умница!
Июнь, 1878
Я шел среди высоких гор,
Вдоль светлых рек и по долинам…
И все, что ни встречал мой взор,
Мне говорило об едином:
Я был любим! любим я был!
Я все другое позабыл!
Сияло небо надо мной,
Шумели листья, птицы пели…
И тучки резвой чередой
Куда-то весело летели…
Дышало счастьем все кругом,
Но сердце не нуждалось в нем.
Меня несла, несла волна,
Широкая, как волны моря!
В душе стояла тишина
Превыше радости и горя…
Едва себя я сознавал:
Мне целый мир принадлежал!
Зачем не умер я тогда?
Зачем потом мы оба жили?
Пришли года… прошли года —
И ничего не подарили,
Что б было слаще и ясней
Тех глупых и блаженных дней.
Ноябрь, 1878
День за днем уходит без следа, однообразно и быстро.
Страшно скоро помчалась жизнь, – скоро и без шума, как речное стремя перед водопадом.
Сыплется она ровно и гладко, как песок в тех часах, которые держит в костлявой руке фигура Смерти.
Когда я лежу в постели и мрак облегает меня со всех сторон – мне постоянно чудится этот слабый и непрерывный шелест утекающей жизни.
Мне не жаль ее, не жаль того, что я мог бы еще сделать… Мне жутко.
Мне сдается: стоит возле моей кровати та неподвижная фигура… В одной руке песочные часы, другую она занесла над моим сердцем…
И вздрагивает и толкается в грудь мое сердце, как бы спеша достучать свои последние удары.
Декабрь, 1878
Когда меня не будет, когда все, что было мною, рассыплется прахом, – о ты, мой единственный друг, о ты, которую я любил так глубоко и так нежно, ты, которая наверно переживешь меня, – не ходи на мою могилу… Тебе там делать нечего.
Не забывай меня… но и не вспоминай обо мне среди ежедневных забот, удовольствий и нужд… Я не хочу мешать твоей жизни, не хочу затруднять ее спокойное течение.
Но в часы уединения, когда найдет на тебя та застенчивая и беспричинная грусть, столь знакомая добрым сердцам, возьми одну из наших любимых книг и отыщи в ней те страницы, те строки, те слова, от которых, бывало, – помнишь? – у нас обоих разом выступали сладкие и безмолвные слезы.
Прочти, закрой глаза и протяни мне руку… Отсутствующему другу протяни руку твою.
Я не буду в состоянии пожать ее моей рукой – она будет лежать неподвижно под землею… но мне теперь отрадно думать, что, быть может, ты на твоей руке почувствуешь легкое прикосновение.
И образ мой предстанет тебе – и из-под закрытых век твоих глаз польются слезы, подобные тем слезам, которые мы, умиленные Красотою, проливали некогда с тобою вдвоем, о ты, мой единственный друг, о ты, которую я любил так глубоко и так нежно!
Декабрь, 1878
Я встал ночью с постели… Мне показалось, что кто-то позвал меня по имени… там, за темным окном.
Я прижался лицом к стеклу, приник ухом, вперил взоры – и начал ждать.
Но там, за окном, только деревья шумели – однообразно и смутно, – и сплошные, дымчатые тучи, хоть и двигались и менялись беспрестанно, оставались все те же да те же…
Ни звезды на небе, ни огонька на земле.
Скучно и томно там… как и здесь, в моем сердце.
Но вдруг где-то вдали возник жалобный звук и, постепенно усиливаясь и приближаясь, зазвенел человеческим голосом – и, понижаясь и замирая, промчался мимо.
«Прощай! прощай! прощай!» – чудилось мне в его замираниях.
Ах! Это всё мое прошедшее, всё мое счастье, всё, всё, что я лелеял и любил, – навсегда и безвозвратно прощалось со мною!
Я поклонился моей улетевшей жизни – и лег в постель, как в могилу.
Ах, кабы в могилу!
Июнь, 1879
Когда я один, совсем и долго один – мне вдруг начинает чудиться, что кто-то другой находится в той же комнате, сидит со мною рядом или стоит за моей спиною.
Когда я оборачиваюсь или внезапно устремляю глаза туда, где мне чудится тот человек, я, разумеется, никого не вижу. Самое ощущение его близости исчезает… но через несколько мгновений оно возвращается снова.
Иногда я возьму голову в обе руки – и начинаю думать о нем.
Кто он? Что он? Он мне не чужой… он меня знает, – и я знаю его… Он мне как будто сродни… и между нами бездна.
Ни звука, ни слова я от него не жду… Он так же нем, как и недвижен… И, однако, он говорит мне… говорит что-то неясное, непонятное – и знакомое. Он знает все мои тайны.
Я его не боюсь… но мне неловко с ним и не хотелось бы иметь такого свидетеля моей внутренней жизни… И со всем тем отдельного, чужого существования я в нем не ощущаю.
Уж не мой ли ты двойник? Не мое ли прошедшее я? Да и точно: разве между тем человеком, каким я себя помню, и теперешним мною – не целая бездна?
Но он приходит не по моему веленью – словно у него своя воля.
Невесело, брат, ни тебе, ни мне – в постылой тишине одиночества!
А вот погоди… Когда я умру, мы сольемся с тобою – мое прежнее, мое теперешнее я – и умчимся навек в область невозвратных теней.
Ноябрь, 1879
Все чувства могут привести к любви, к страсти, все: ненависть, сожаление, равнодушие, благоговение, дружба, страх, – даже презрение.
Да, все чувства… исключая одного: благодарности.
Благодарность – долг; всякий честный человек плотит свои долги… но любовь – не деньги.
Июнь, 1881
Я боюсь, я избегаю фразы; но страх фразы – тоже претензия.
Так, между этими двумя иностранными словами, между претензией и фразой, так и катится и колеблется наша сложная жизнь.
Июнь, 1881
Простота! простота! Тебя зовут святою… Но святость – не человеческое дело.
Смирение – вот это так. Оно попирает, оно побеждает гордыню. Но не забывай: в самом чувстве победы есть уже своя гордыня.
Июнь, 1881
Брамин твердит слово «Ом!», глядя на свой пупок, – и тем самым близится к божеству. Но есть ли во всем человеческом теле что-либо менее божественное, что-либо более напоминающее связь с человеческой бренностью, чем именно этот пупок?
Июнь, 1881
Все говорят: любовь – самое высокое, самое неземное чувство. Чужое я внедрилось в твое: ты расширен – и ты нарушен; ты только теперь зажил ‹?› и твое я умерщвлено. Но человека с плотью и кровью возмущает даже такая смерть… Воскресают одни бессмертные боги…
Июнь, 1881
– Почему вы так дорожите бессмертием души? – спросил я.
– Почему? Потому что я буду тогда обладать Истиной вечной, несомненной… А в этом, по моему понятию, и состоит высочайшее блаженство!
– В обладании Истиной?
– Конечно.
– Позвольте; в состоянье ли вы представить себе следующую сцену? Собралось несколько молодых людей, толкуют между собою… И вдруг вбегает один их товарищ: глаза его блестят необычайным блеском, он задыхается от восторга, едва может говорить. «Что такое? Что такое?» – «Друзья мои, послушайте, что я узнал, какую истину! Угол падения равен углу отражения! Или вот еще: между двумя точками самый краткий путь – прямая линия!» – «Неужели! о, какое блаженство!» – кричат все молодые люди, с умилением бросаются друг другу в объятия! Вы не в состоянии себе представить подобную сцену? Вы смеетесь… В том-то и дело: Истина не может доставить блаженства… Вот Правда может. Это человеческое, наше земное дело… Правда и Справедливость! За Правду и умереть согласен. На знании Истины вся жизнь построена; но как это «обладать ею»? Да еще находить в этом блаженство?
Июнь, 1882
Лежа в постели, томимый продолжительным и безысходным недугом, я подумал: чем я это заслужил? за что наказан я? я, именно я? Это несправедливо, несправедливо!
И пришло мне в голову следующее…
Целая семейка молодых куропаток – штук двадцать – столпилась в густом жнивье. Они жмутся друг к дружке, роются в рыхлой земле, счастливы.