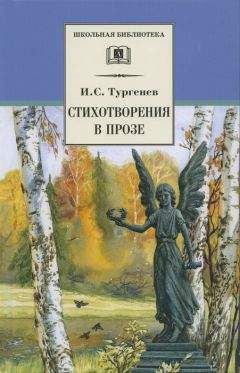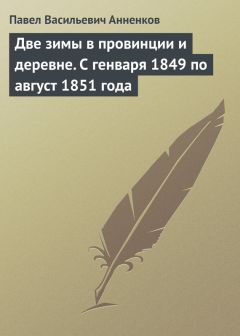Вдруг их вспугивает собака – они дружно, разом взлетают; раздается выстрел – и одна из куропаток, с подбитым крылом, вся израненная, падает – и, с трудом волоча лапки, забивается в куст полыни.
Пока собака ее ищет, несчастная куропатка, может быть, тоже думает: «Нас было двадцать таких же, ‹как› я… Почему же именно я, я попалась под выстрел и должна умереть? Почему? Чем я это заслужила перед остальными моими сестрами? Это несправедливо!»
Лежи, больное существо, пока смерть тебя сыщет.
Июнь, 1882
Голубое небо, как пух легкие облака, запах цветов, сладкие звуки молодого голоса, лучезарная красота великих творений искусства, улыбка счастья на прелестном женском лице и эти волшебные глаза… к чему, к чему все это?
Ложка скверного, бесполезного лекарства через каждые два часа – вот, вот что нужно.
Июнь, 1882
– Что значат эти стоны?
– Я страдаю, страдаю сильно.
– Слыхал ли ты плеск ручья, когда он толкается о каменья?
– Слыхал… но к чему этот вопрос?
– А к тому, что этот плеск и стоны твои – те же звуки, и больше ничего. Только разве вот что: плеск ручья может порадовать иной слух, а стоны твои никого не разжалобят. Ты не удерживай их, но помни: это всё звуки, звуки, как скрып надломленного дерева… звуки – и больше ничего.
Июнь, 1882
Я проживал тогда в Швейцарии… Я был очень молод, очень самолюбив – и очень одинок. Мне жилось тяжело – и невесело. Еще ничего не изведав, я уже скучал, унывал и злился. Все на земле мне казалось ничтожным и пошлым, – и, как это часто случается с очень молодыми людьми, я с тайным злорадством лелеял мысль… о самоубийстве. «Докажу… отомщу…» – думалось мне… Но что доказать? За что мстить? Этого я сам не знал. Во мне просто кровь бродила, как вино в закупоренном сосуде… а мне казалось, что надо дать этому вину вылиться наружу и что пора разбить стесняющий сосуд… Байрон был моим идолом, Манфред моим героем.
Однажды вечером я, как Манфред, решился отправиться туда, на темя гор, превыше ледников, далеко от людей, – туда, где нет даже растительной жизни, где громоздятся одни мертвые скалы, где застывает всякий звук, где не слышен даже рев водопадов!
Что я намерен был там делать… я не знал… Быть может, покончить с собою?!
Я отправился…
Шел я долго, сперва по дороге, потом по тропинке, все выше поднимался… все выше. Я уже давно миновал последние домики, последние деревья… Камни – одни камни кругом, – резким холодом дышит на меня близкий, но уже невидимый снег, – со всех сторон черными клубами надвигаются ночные тени.
Я остановился наконец.
Какая страшная тишина!
Это царство Смерти.
И я здесь один, один живой человек, со всем своим надменным горем, и отчаяньем, и презреньем… Живой, сознательный человек, ушедший от жизни и не желающий жить. Тайный ужас леденил меня – но я воображал себя великим!..
Манфред – да и полно!
– Один! Я один! – повторял я, – один лицом к лицу со смертью! Уж не пора ли? Да… пора. Прощай, ничтожный мир! Я отталкиваю тебя ногою!
И вдруг в этот самый миг долетел до меня странный, не сразу мною понятый, но живой… человеческий звук… Я вздрогнул, прислушался… звук повторился… Да это… это крик младенца, трудного ребенка!.. В этой пустынной, дикой выси, где всякая жизнь, казалось, давно и навсегда замерла, – крик младенца?!!
Изумление мое внезапно сменилось другим чувством, чувством задыхающейся радости… И я побежал стремглав, не разбирая дороги, прямо на этот крик, на этот слабый, жалкий – и спасительный крик!
Вскоре мелькнул предо мною трепетный огонек. Я побежал еще скорее – и через несколько мгновений увидел низкую хижинку. Сложенные из камней, с придавленными плоскими крышами, такие хижины служат по целым неделям убежищем для альпийских пастухов.
Я толкнул полураскрытую дверь – и так и ворвался в хижину, словно смерть по пятам гналась за мною…
Прикорнув на скамейке, молодая женщина кормила грудью ребенка… пастух, вероятно ее муж, сидел с нею рядом.
Они оба уставились на меня… но я ничего не мог промолвить… я только улыбался и кивал головою…
Байрон, Манфред, мечты о самоубийстве, моя гордость и мое величье, куда вы все делись?…
Младенец продолжал кричать – и я благословлял и его, и мать его, и ее мужа…
О горячий крик человеческой, только что народившейся жизни, ты меня спас, ты меня вылечил!
Ноябрь, 1882
Я получил письмо от бывшего университетского товарища, богатого помещика, аристократа. Он звал меня к себе в имение.
Я знал, что он давно болен, ослеп, разбит параличом, едва ходит… Я поехал к нему.
Я застал его в одной из аллей его обширного парка. Закутанный в шубе – а дело было летом, – чахлый, скрюченный, с зелеными зонтами над глазами, он сидел в небольшой колясочке, которую сзади толкали два лакея в богатых ливреях…
– Приветствую вас, – промолвил он могильным голосом, – на моей наследственной земле, под сенью моих вековых деревьев!
Над его головою шатром раскинулся могучий тысячелетний дуб.
И я подумал: «О тысячелетний исполин, слышишь? Полумертвый червяк, ползающий у корней твоих, называет тебя своим деревом!»
Но вот ветерок набежал волною и промчался легким шорохом по сплошной листве исполина… И мне показалось, что старый дуб отвечал добродушным и тихим смехом и на мою думу – и на похвальбу больного.
Ноябрь, 1882
Цит. по кн.: Тургенев И. С. Стихотворения в прозе. М.; Л.: Academia, 1931. С. 141.
См., напр.: Квятковский А. Поэтический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1966. С. 287.
Сб. «Литературная Москва». М.: Гослитиздат, 1956. С. 795.
Пушкин А. С. Собр. соч. М.: Изд-во АН СССР, 1949. Т. 6. С. 316.
Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 3 (II). С. 941.
Необходимость, Сила, Свобода (лат.).
Heт большей скорби (ит.).