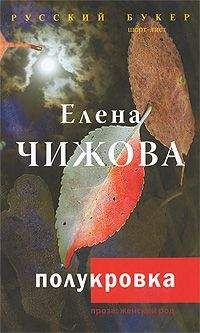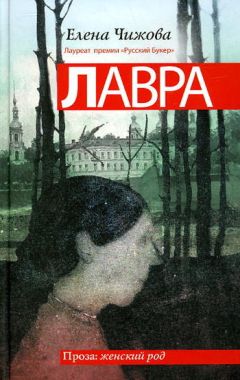Где-то далеко, за пеленой моего стыда, в тумане, не знающем солнца, владыка подымался с места, отставляя в сторону прибор. Все потянулись следом встать. "Сидите, я - к студентам, у них сегодня веселее", - его голос становился отчужденным. Он вышел вон, ни на кого не взглянув. После его ухода веселья так и не наступило. Посидев недолго, для приличия, пары начали подыматься. Выходя из комнаты вслед за мужем, я думала о том, что владыка попросту сбежал. В предутренний час я не находила сил сосредоточиться. Муж хотел, чтобы в среде его товарищей я стала своей. Случись так, и у него появилась бы новая иллюзия единения: как в случае с реверендой. Теперь я начинала понимать: решительно он желал идти своим, петлистым путем, но эта петля захватывала и меня. Я прикинула еще раз - нет, для этих батюшек и матушек я не могла и не хотела становиться своей. "Неужели, если я откажусь, мне придется уйти к комсомольцам?" В мозгу медленно плыла усталость. Бессвязные слова, похожие на отрывистые впечатления, мелькали во мне, не сопрягаясь: о духе, которым я про себя называла владыку, о теле - состоявшем из множества мужских и женских тел, которому я, прислушиваясь к ноющей боли в ноге, вовсе отказывала в духе. Какое-то новое разделение, не учтенное в моей скороспелой формуле, медленно поднималось на поверхность. Мне казалось, я вижу неясные контуры, очерченные новыми словами. Я вспоминала Митин палец, коснувшийся губ, мою короткую боль, похожую на жалость, триумфальный выход владыки - его пасхально багровеющее облачение, и думала о том, что на этом общем празднике они - дух и тело - вряд ли сумеют примириться.
ТЕЛО И КРОВЬ
На пасхальные каникулы муж, в составе академической делегации, возглавляемой владыкой Николаем, отправился в Польшу. По замыслу принимающей стороны, гости должны были принять участие в совместных консультациях, а в свободное время объездить несколько католических монастырей.
С вечера, предоставленная сама себе, я привычно раскладывала книги и старательно вчитывалась в написанное, но строки бежали мимо. Час за часом я не оставляла попыток, но буквы не желали складываться в слова. Из-за черных знаков, рябивших мелкой зыбью, всплывала то рука, восходящая к губам покорным, просительным жестом, то, словно отгоняя, поднимались собранные глаза владыки. Странное слово - иерархия, приходящее на мой измученный бессонницей ум, не давало покоя. К утру, сломленная усталостью, я добиралась до подушки и засыпала без снов.
Пасхальные каникулы подошли к концу, и, в продолжение следующих недель, я сама заводила речь о владыке. Задернув клетчатые шторы и разлив чай, я, как мне казалось хитро, наводила разговор. Я расспрашивала о том, чем закончилась история с беззаконно отъеденной просфоркой (выяснилось, что тогда маленькому Володе здорово досталось от отца Василия), или просила рассказать подробнее, каково это было, когда его обнаружили в ризнице спящим. Давние, неправдоподобные, почти апокрифические истории, которые муж пересказывал мне с новыми подробностями и неизменным умилением, вызывали жгучий интерес, который, время от времени отпуская незначащие замечания, я тщательно скрывала. Раз за разом я возвращала память мужа к прежним временам, так что однажды, видимо усомнившись в том, что я в полной мере понимаю суть давнего прегрешения владыки, нарушившего просфорку, муж объяснил мне: частицы, вынутые из просфорок, - каждая за свое имя - опускают в Чашу и объединяют их таким образом с Телом и Кровью Христовой. Из этой Чаши всех и причащают. "Женщины не видят главного. Частицы вынимают в алтаре, куда вашей сестре ход закрыт", - он произнес с удовольствием. "Ну, что ж, - скрывая плеснувшее через край раздражение, я отшутилась, - значит, вашей сестре придется догадываться по косвенным признакам". Муж не поддержал шутки и вернулся к детским историям.
"Да не было ничего особенного, они уже привыкли. Володя, вообще, прислуживал неохотно, то одно, то другое. C дисциплиной у него всегда были нелады", - муж отвечал на мои вопросы, кажется, уже удивляясь их настойчивости. Тут меня дернул черт, и я спросила: почему он принял постриг? В моем вопросе крылось двойное дно: я хотела знать, почему, отворачиваясь от мира, он не сумел отвернуться окончательно? Кто как не он, идущий вперед по красной ковровой просеке, он - средоточие пасхальных сияющих глаз, мог и должен был отвернуться от видимого - несовершенного и грешного - мира, но этот мир не отпускал его, притягивал семейным академическим кругом. Я не сказала вслух, но про себя решила, что его монашество не совсем невидимое - из видимого он оставил себе карьеру и академическую семью. В каком-то смысле, об этом я с тайной надеждой сказала мужу, отец Петр, обремененный семьей, ведет более монашескую жизнь.
Муж решительно отмел сравнение с Петром, но своего ответа не дал. Подумав, он предположил, что, кроме всего прочего, монашество было важным условием карьеры. Теперь, в его необдуманной интерпретации, владыка ректор выходил почти заурядным честолюбцем. "Карьеру можно сделать и в другом..." - я вспомнила об институтском ректоре, начинавшем в обкоме. "Его отец из репрессированных", - муж произнес неохотно, словно это признание могло умалить в моих глазах чистоту сыновнего выбора. "Отец умер?" - я спросила сразу, потому что теперь я спрашивала о главном. Он кивнул. "Значит, каждый раз во время великой ектении, когда молятся о властях?.. " - "Это - не наше дело. Наше царствие не от мира сего. Церковь не выступает против власти Кесаря", словно забыв свои же слова о том, что церковь ничего не отпустила, муж отказывался обсуждать. "Или боится выступить?.." - я парировала глупо и запальчиво, но он уже вышел из комнаты. Нет, так не может: я представила себе руку владыки, поднимающуюся ко лбу безгрешным, ангельским жестом - за всех. С этим я не могла смириться. Не смирившись, я замыслила поймать за руку.
Случай представился скоро. По долгу службы муж занимался расшифровкой кассет с речами владыки - одновременно он переводил их на английский. Позже из этих переводов составлялись документы для Всемирного Совета Церквей. Обычно муж работал с кассетами по ночам: выкладывал на стол портативную машинку, включал диктофон, надевал наушники. Пленка крутилась беззвучно. По утрам на столе лежали листы готового английского текста. Иногда я заглядывала из любопытства: перевод речей казался мне замечательным. Я не видела оригинала, я могла судить лишь по переводу, однако и в переводе, на мой взгляд, чистом и безупречном, что-то удивляло меня. В нем уживались, как-то противореча друг другу, легко узнаваемые библейские фразы и жесткие обороты речи, которые про себя я называла политическими. Просмотрев, я откладывала. Однажды диктофон дал сбой: сам по себе он переключился с "off" на "on". Мы сидели в гостиной: я смотрела телевизор, муж печатал. Ясный и громкий голос неожиданно прорвался наружу - несвязный обрывок речи, проговоренный вслух. Этот обрывок был коротким, в несколько слов. По отрывочным словам - очень быстро муж переключил назад - я не сумела понять целое, но что-то более важное, более полное, чем смысл, приковало мой слух. Это была странная, невыразимая интонация - какой-то плачущий отзвук, не имеющий отношения к безупречно переведенным листам. На следующий день муж снова уехал в командировку. В этот раз он уезжал без владыки. Группу, состоявшую из преподавателей и священников, пригласили в Израиль - на какие-то торжества. Довольно туманно муж прокомментировал: "Едем к истокам", и мимоходом, собирая его чемодан, я представила себе эти истоки в виде ручьев, отдававших красноватым.
В его отсутствие я поставила кассету на магнитофон. Речь владыки была черновой. Мне показалось, он надиктовывал на ходу, в пустые, свободные минуты: плавное течение прерывалось то коротким распоряжением в сторону, то паузой, заполненной шуршанием бумаг. Кажется, это называется эффектом присутствия, но как бы то ни было, я чувствовала себя так, будто сама сижу в его кабинете. Присутствие, которого я достигла, дарило меня особенным, тайным наслаждением. Закрыв глаза и представляя собранное лицо с широковатыми скулами, я слушала живую речь владыки, и эта речь больше не казалась мне безупречной. Глаза, глядевшие на переведенные листы, оказались несовершенным инструментом. Противоречие, крывшееся в его языке, становилось все более явным.
Уши не обманули меня: под живым и сильным голосом, глубоко, на самом его дне, таилась странная, неизбывная интонация - та, которую я, по короткому несвязному отрывку, приняла за плачущую. Под живым голосом, укрытые ясными, но противоречащими друг другу словами - библейскими и современными, - стояли бесстыжие стены страха. Я слушала и снова перематывала назад: мне нужно было время, чтобы свыкнуться. Слова бежали, исчезали и снова появлялись. Господи, я думала о том, что радостное оживление мужа, с которым он встречал свою новую деятельность, похоже на недомыслие. Теперь я видела по-другому: дух, измученный видом страшного, похожего на призрак, сидит за общим столом, надеясь, хоть на какое-то время, укрыться за их обыденным весельем. Это страшное он скрывал от них, держал их в неведении. Сам-то он видел воочию и не отбрасывал видимое, не заслонялся чужим милосердным сиянием. Перед призраком не закрывая сосредоточенных глаз - он вставал окруженный двумя рядами оцепления. Эта странная сцена, которую я представила, показалась мне похожей на другую - из "Гамлета": принц, окруженный стражниками, выходит из круга, чтобы встретиться с призраком отца, - встретиться, чтобы отомстить. Литературное сравнение укрепило меня. Снова я чувствовала твердое, на котором крепко и надежно стояли мои ноги. Пленка крутилась и крутилась. Я больше не останавливала.